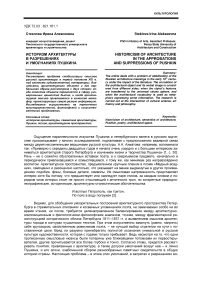Историзм архитектуры в разрешениях и умолчаниях Пушкина
Автор: Стеклова Ирина Алексеевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрена проблема стабилизации смыслов русской архитектуры в первой половине XIX в. под влиянием художественной литературы. Взаимосвязь архитектурного объекта и его вербального образа рассмотрена с двух сторон: когда свойства объекта переносятся в сферу универсальных ценностей бытия, и когда архитектурная лексика привлекается в качестве метафор, транслирующих самую разную информацию. Исследование осуществлено на пересечении культурологической, философской и искусствоведческой проблематик.
Историзм архитектуры, семантика архитектуры, пушкин, поэзия, архитектурное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/14935153
IDR: 14935153 | УДК: 72.03
Текст научной статьи Историзм архитектуры в разрешениях и умолчаниях Пушкина
Ощущение параллельности искусства Пушкина и петербургского взлета в русском зодчестве проскальзывает у многих исследователей, подталкивая к предположению взаимной связи между двумя несомненными вершинами русской культуры. А.А. Ахматова, например, вспоминала так: «Примерно с середины двадцатых годов я начала очень усердно и с большим интересом заниматься архитектурой старого Петербурга и изучением жизни и творчества Пушкина» [1, с. 30]. Речь - не о сюжетно обусловленных вставках поэта, а о сверхъемком предмете, изначально и периодически привлекавшемся и осмыслявшемся, к тому же, как минимум раз непревзойденно воспетом. Архитектурное пространство, предъявленное крупным планом в поэме «Медный всадник», самоценно и резонансно настолько, что указывает на менее выдвинутые в других произведениях подобия, фоны, боковые детали, символы. Их смысловая напряженность представляет интерес хотя бы потому, что предшествует или наследует паре стихов, за каждым словом и порядком слов которых стоит не просто отсылающий к античности троп, но конкретные природногеографические, исторические, архитектурно-стилистические обстоятельства:
И всплыл Петрополь, как тритон, По пояс в воду погружен [2].
Видимо, для обобщения умозрительных построений архитектурного пространства Петербурга в стремительных описаниях и косвенных упоминаниях поэта, не замечаемых особо ни во время чтения, ни после, требуется целенаправленное балансирование между архитектурнокомпозиционным и филологически-философским анализом, точнее, между фрагментарной реконструкцией исторического облика Петербурга 1811–1837 гг. и выявлением смыслов архитектуры города в контурах пушкинских текстов. При этом искусственно замкнуть (равно, напрячь) себя кругозором, свойственным ровесникам поэта, - не лучший выбор стратегии на пути к поставленной цели. Вряд ли разумно пренебрегать полнотой осознания уникальной в русской культуре художественности, которая с годами только прибывает. Ведь несмотря на то, что одни прописанные смысловые нюансы были потеряны уже ближайшими потомками их первооткрывателей, другие прочитываются все более глубоко и тонко. Согласно этому, придется рассматривать понятия, привязанные к архитектуре, а также допуски умолчаний вокруг нее - и лично Пушкина, и его эпохи, озабоченной сбором разнообразных памятных свидетельств в общую историю страны. Настоящая проблема - в этике этих умолчаний, в запретах и разрешениях во- круг того, что не было проговорено автором буквально, но просматривается в его собственной полемической практике.
Каждая позиция поэта в том или ином журнальном споре была профессионально мотивирована, имела цель и оговоренные условия поставленной задачи, например: « Если вместо формы стихотворения будем брать за основание только дух, в котором оно писано, то никогда не выпутаемся из определений» [3]. Находясь в стороне от теоретизирования, систематического умонастроения, Пушкин оставил множество фрагментов аналитического характера, и давал их с определенной этической дистанции, совсем не избегая гибких обобщений, но и не укладываясь в упрощающий схематизм, навязываемый примитивными стандартами стилистических размежеваний. Может, потому что сам, по мнению В.С. Непомнящего, противостоял и «противостоит попыткам подключить его, хоть каким-то боком, к любой внешней по отношению к нему художественной типологии. Он существует целиком; он сам есть типология, и притом необычайно широкая» [4, с. 124].
Фактор глубокого исследовательского проникновения присутствовал и в художественной работе Пушкина. Здесь ему пригодились не только личностные задатки и эрудиция, но и свободное владение нелегальным сослагательным наклонением - в сомнительных альтернативах, гипотетических наступлениях и отступлениях, импровизациях причинно-следственной логики случившегося и т.п. Все это оказалось эффективным настолько, что частная трактовка родной истории с нескрываемыми симпатиями автора в «Полтаве», «Борисе Годунове», «Капитанской дочке» и т.д. была присвоена русским сознанием неотторжимо, вопреки массиву научно доказанных опровержений. Ведь сама вариативная предрасположенность событий является фактом исторического порождения, и, значит, допуск того или иного поворота событий оправдан и даже неизбежен: «Не говорите: “Иначе нельзя было быть”. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном, и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но Провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая – мощного, мгновенного орудия провидения» [5] .
Видимо, разбираться в пушкинском восприятии архитектуры позволительно лишь в установках и допусках самого поэта и, как минимум, в треугольнике позиций - заложенных когда-то и считываемых ныне понятий (с накопленным между ними семантическим интервалом), а также в преемственности признанных ценностей архитектурного пространства. При этом, чтобы не уклониться от оригинала, нужно постоянно соотноситься с целостностью пушкинского творчества и многоголосьем культуры его времени, а также с обретенным и обновляемым знанием о том и о другом:
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли Толпой со всех концов земли К богатым пристаням стремятся... [6]
Самые добросовестные попытки исчерпания смыслов архитектуры ограничены по определению как эхо безмолвия, своевольное оглашение полнейшей тишины. Но все-таки заманчиво обратиться за этим к автору, который сознательно ни к чему подобному не стремился, но явил и являет эталон словесной выразительности по-русски. Разумеется, А.С. Пушкин не был выдающимся знатоком зодчества, не занимался его системной рефлексией, не различал специальных вопросов и т.п. Но есть мотивы, метафоры и метонимии глубже любых систематических рациональных обобщений, а также слог, способствующий передаче информации одними обертонами. Поэт был причастен к архитектуре не многим более других представителей современной ему культурной элиты России, только в силу совпадения энциклопедической образованности, абсолютного художественного вкуса, внутренней свободы и непревзойденного таланта именно ему удалось затронуть те сущностные смыслы, что обеспечивают приближение к многомерности этого феномена:
Два чувства дивно близки нам, В них обретает сердце пищу: Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам [7].
Пушкин просветил насквозь тот монолит русского языка, в котором спрессованы базовые ценности, модели, архетипические национально-культурные представления: «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу» [8]. Свернутую у каждого народа сеть устойчивых ассоциаций, смыслов, образов предстояло убедительно для всех расправить, натянуть, озвучить. Например, определить символические пределы русской ментальности в словосочетаниях «родное пепелище» и «отеческие гробы», воспринимающихся как откровение начал и концов земной жизни «не столько разумом, сколько всем опытом нашей культуры» [9, с. 125], потому и не поддающихся буквальному переводу на другие языки. А в глубинах этого опыта – расплывчатые контуры родового дома и старого кладбища, в которых, тем не менее, проглядывают вполне четкие, узнаваемые архитектурные традиции. В общем-то никому из соотечественников не нужны дополнительные истолкования к виду среднепересеченного ландшафта с речкой, которая «извивалась между холмами; на одном из них над густою зеленью рощи возвышалась зеленая кровля и бельведер огромного каменного дома, на другом пятиглавая церковь и старинная колокольня; около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезями» [10].
Истинный вкус, что «состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности» [11], рассматривался поэтом конструктивно, как предпосылка гармонии не только в литературном материале. Он не сомневался в реальном, а значит, консолидирующем «основании красоты». Состояния соразмерности и сообразности при всей их подвижности, изменчивости, относительности, объективны и абсолютны хотя бы на мгновение как весть о высшем порядке вещей в мире. В трансляции чуткого проводника они равно убедительны, проступая и в тусклых ландшафтах с ампирными усадьбами, и в бесконечных панорамах Невы с неизменным ориентиром колокольни Петропавловской крепости – везде, где выявлены соразмерность и сообразность как формальные и сущностные признаки этого порядка.
Вспоминая одного романиста, приблизившего англичан к самоощущению всего лишь мига их физической природы, Пушкин воскликнул: «Несносный наблюдатель! знал бы про себя; многие того не заметили б» [12], не задумываясь при этом, что восприятие мира у русскоязычной публики перенаправляется им самим и куда как более широким фронтом. Элементы архитектурного пространства у поэта настолько органичны, что и не осмысляются специально, рационально, прагматически, пропускаясь через читателя, как и в реальной жизни, чувственно. Из конкретных объемно-планировочных решений, композиционно-стилистических особенностей, форм, деталей столицы создавались лирические, эпические, реалистические варианты среды, которая всячески способствовала раскрытию их темперамента или, напротив, поглощению индивидуальности.
Пушкин – крупнейший интеллектуал и эстет, персонифицировавший эпоху претворения самых грандиозных в России архитектурных проектов. Новые смыслы, привнесенные им в интерпретацию архитектурного пространства, актуальны и для осознания беспредельности архитектурной профессии, и для приближения сограждан к гуманистической целостности культуры.
Ссылки:
-
1. Герштейн Э.Г., Вацуро В.Э., Заметки А.А. Ахматовой о Пушкине // Временник Пушкинской комиссии. 1970 / АН СССР. ОЛЯ. Пушкин. комис. Л., 1972.
-
2. Пушкин А.С. Медный всадник // Полн. собр. соч.: в 10 т. Л., 1977–1979. Т. 4. С. 279.
-
3. Пушкин А.С. О поэзии классической и романтической // Полн. собр. соч. … Т. 7. С. 279.
-
4. Непомнящий В.Я. Поэзия и судьба. Книга о Пушкине. М., 1999.
-
5. Пушкин А.С. Второй том «Истории русского народа» Полевого // Полн. собр. соч. … Т. 7. С. 100.
-
6. Пушкин А.С. Медный всадник ... С. 275.
-
7. Пушкин А.С. Два чувства дивно близки нам // Полн. собр. соч. … Т. 3. С. 203.
-
8. Пушкин А.С. О народности в литературе // Полн. собр. соч. … Т. 7. С. 29.
-
9. Соболевская Н.Н. Ты, в ком поселился Гений… // Сибирская пушкинистика сегодня: сб. науч. ст. Новосибирск, 2000.
-
10. Пушкин А.С. Дубровский // Полн. собр. соч. … Т. 6. С. 157.
-
11. Пушкин А.С. Отрывки из писем, мысли и замечания // Полн. собр. соч. … Т. 7. С. 38.
-
12. Там же.