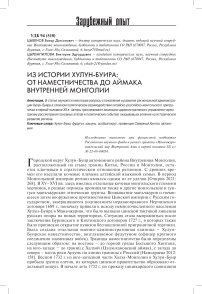Из истории Хулун-Буира: от наместничества до аймака Внутренней Монголии
Автор: Цыбенов Б.Д., Цыремпилова В.Э.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 4 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье изучаются некоторые вопросы становления и развития региональной администрации Хулун-Буира в сложном политическом взаимодействии китайско-российско-монгольского приграничья в первой половине XX в. Авторы прослеживают эволюцию административного управления через призму рассмотрения основных этапов и политических событий, оказывавших влияние на историческое развитие региона.
Хулун-Буир, фудутун, хошуны, особый округ, провинция Северный Хинган, автономия
Короткий адрес: https://sciup.org/170211088
IDR: 170211088 | УДК: 94 (510)
Текст научной статьи Из истории Хулун-Буира: от наместничества до аймака Внутренней Монголии
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта «Маньчжуромонгольский мир Внутренней Азии в первой половине XX в.» № 22-68-00054.
Городской округ Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия, расположенный на стыке границ Китая, России и Монголии, остается ключевым в стратегическом отношении регионом. С древних времен его населяли кочевые племена алтайской языковой семьи. В период Монгольской империи регион являлся одним из ее уделов [Очиров 2021: 268]. В XV–XVI вв. здесь имелись отдельные кочевья монгольского племени хорчинов, в разные периоды проникали также и другие монгольские и тунгусо-маньчжурские этнические группы. Возвышение маньчжуров и начавшееся затем вооруженное противостояние Цинской империи с Русским государством, завершившееся подписанием неравноправного Нерчинского договора 1689 г., поначалу привели к исходу немногочисленного населения Хулун-Буира в Маньчжурию, что было вызвано цинской тактикой лишения русских опоры на новых территориях. Ситуация стала выправляться после заключения Буринского и Кяхтинского договоров 1727 г., в которых также было прописано открытие пунктов беспошлинной приграничной торговли. Была создана отдельная военно-административная единица – Хулун-Буирское наместничество, возглавляемое фудутуном (офицер крупного соединения знаменных войск). Границы наместничества были определены следующим образом: на востоке - до горной гряды Большого Хингана, на юго-западе - до границ с Халхой (Цэцэнхановский аймак), с запада до севера – вдоль реки Аргунь по линии границы с Россией [Намсараева 2012: 158]. Весной 1732 г. из юго-западной части Халха-Монголии в Хулун-Буир прибыла группа олетов, из которых цинское правительство образовало отдельный хошун. В начале лета 1732 г. по приказу цицикарского цзянцзюня для несения пограничной службы из окрестностей Цицикара и Бутхи в Хулун-Буир были переселены 1 636 солонов, 730 дауров, 275 баргутов, 359 орочонов вместе с семьями. Они были поселены к востоку от оз. Буир-нора, р. Оршуни, оз. Далайнора и р. Аргуни до хребта Большого Хингана; южной границей служила р. Халха. В начале XX в. эта территория была известна как Старая Барга (Хучин Барга). В 1734 г. состоялось переселение в регион из пределов Цэцэн-хановского аймака Халха-Монголии другой группы баргутов (в основе своей родственной хори-бурятам Российской империи), получивших название новых баргутов. Им были отведены кочевья к западу от оз. Буир-нора, р. Оршуни и оз. Далайнора. Впоследствии их земли стали именоваться Новой Баргой (Шинэ Барга) [Мещерский 1920: 3-4].
Все вновь прибывшие монгольские и тунгусские этнические группы были включены в маньчжурскую восьмизнаменную систему. Они были обязаны нести военную, полицейскую и пограничную караульную службу, содержать почтовые тракты в Барге. По данным начала XX в., все кочевые и охотничьи племена были разбиты на знамена, которым соответствовали административно-территориальные единицы – хошуны. Всего насчитывалось 18 хошунов, объединявшихся в 6 знаменных участков. В Старой Барге было 2 знаменных участка – солоно-баргутский, восточного крыла и солонский западного крыла; в Новой Барге также 2 участка – оба ново-баргутские, восточного крыла и западного крыла; 5-й участок – олетский (к нему причислялся также хошун забайкальских бурятов); 6-й участок – орочонский. Распределение знаменных участков на хошуны было следующим: 1) солон-баргутский восточного крыла (4 хошуна желтого с каймой, белого, белого с каймой, синего знамен); 2) солонский западного крыла (4 хошуна желтого, красного, красного с каймой, синего с каймой знамен); 3) ново-баргутский восточного крыла (хошуны желтого с каймой, белого, белого с каймой, синего знамен); 4) ново-баргутский западного крыла (4 хошуна желтого, красного, красного с каймой, синего знамен); 5) олетский (1 хошун желтого с каймой знамени); 6) орочонский (1 хошун синего с каймой знамени) [Кормазов 1928: 13, 61-62].
Ямынь (администрация) фудутуна располагался в Хайларе, основанном в 1734 г. Глава Хулун-Буира имел и военные полномочия – он мог выступить во главе войска. Так, в 1900 г. фудутун Ашинга командовал объединенными силами провинции Хэйлунцзян и Хулун-Буира против войск генерал-майора Н.А. Орлова, наступавших на Хайлар [Кузьмин 2021: 21]. После поражения в июле 1900 г. на ст. Онгон в хошуне Старая Барга и последующего взятия Хайлара русскими войсками фудутун долгое время не мог оправиться. В июне 1902 г. чиновник по дипломатической части Н.В. Богоявленский, посетивший город, отмечал в письме к приамурскому генерал-губернатору Н.И. Гродекову, что «Хайлар уже поправился после беспорядков, несколько обстроился, но совсем не производит впечатления китайского города: по единственной его улице видишь русские лавки, гостиницы, разные казенные учреждения, но ничего китайского и полное отсутствие самих хозяев – китайцев»1. Богоявленского удивило незнание местными русскими главы Хулун-Буира – фудутуна и места его жительства; оказалось, что никто из них не знал о его существовании и где он живет. С трудом ему удалось узнать, что амбань действительно есть и живет где-то в верстах 8 от города. Приехав к нему, российский дипломат увидел, что высшая местная власть занимает три полуразрушенные фанзы, где располагались свита и канцелярия, в страшной тесноте, бедности, без всякого намека, что это ямынь. Как отмечал Богоявленский, «фудутун горько жаловался, что русские власти не дают ему помещения в городе, что и китайские подданные изгнаны из города, дома их отданы русским начальством под лавки и гостиницы, а китайцы – хозяева живут за городом, кому где придется. Его, фудутуна, русские власти за начальство не признают, достоинство его унижено, и он, живя, кроме того, вдали от города, не может управлять городом»1. В заключение беседы фудутун просил помощи у российского дипломата в получении помещения в Хайларе и в целом в поднятии значения его власти. На это чиновник МИДа дал ответ, что помочь лично он не может, но жалобу его перенаправит приамурскому гене-рал-губернатору2. Из этого обращения фудутуна Хулун-Буира можно понять, что он находился в достаточно сложном положении и, очевидно, в отсутствие каких-либо инициатив со стороны цинского двора был вынужден просить помощи у российских приграничных властей. Ситуация для ямыня фудутуна стала нормализовываться начиная с 1904–1905 гг.
После войны 1900 г. баргутские караулы были сняты и восстановлены лишь в 1904 г. в числе 11 караулов. В 1905 г. баргутские караулы были заменены китайскими. В 1909 г. было создано Хулун-Буирское даотайство [Мещерский 1920: 5]. Исполняющим обязанности даотая был назначен Сун Сяолян. Необходимо заметить, что, наряду с усилением китайского влияния, продолжалось достаточно интенсивное политико-экономическое проникновение в регион России по линии КВЖД и несколько позже – Японии.
Учредив даотайство, китайцы оставили старые монгольские органы. Главы хулун-буирских хошунов и сомонов сохранили свои должности и печати, но, в отличие от прежнего полного самоуправления в своих землях, они не имели реальной власти и должны были довольствоваться ролью низших исполнительных органов. Сохранилось и прежнее деление на хошуны.
В январе 1912 г. Хайлар был захвачен повстанцами во главе с угурдой западного крыла Новой Барги Чэхэджа и угурдой олетского хошуна Шэнфу. Амбанем стал Шэнфу, который объявил о вхождении Хулун-Буира в состав Внешней Монголии. Однако сразу же появились разногласия между ямынем Хулун-Буира и правительством Богдо-гэгэна, чиновников которого не допускали к финансовым делам региона. Разворачивающиеся события осложнялись противоречиями среди хулун-буирского чиновничества, расколовшегося на две основные группировки – сторонников объединения с Внешней Монголией и восстановления Цинской династии. При этом важную роль в политической жизни Хулун-Буира играли дауры, которые не имели своего отдельного хошуна. Они проживали в двух деревнях рядом с Хайларом и, по всей видимости, причислялись к олетскому хошуну. Амбань Шэнфу, до этого возглавлявший олетский хошун, был дауром. Англо-американский востоковед О. Латтимор отмечал: «В силу своей энергии, способностей и традиции занимать высшие должности, дагуры монополизировали все высшие административные должности в Барге» [Латтимор 1936: 100]. Дауры сумели создать численный перевес в администрации Хулун-Буира, благодаря чему почти всегда находились в выигрыше по итогам различных голосований. Кроме того, даурская верхушка, очевидно, находилась в тесных контактах с русскими промышленниками и купцами, в начале XX в. успешно работав шими во м ногих местностях региона.
Независимое положение Хулун-Буира закончилось 24 октября 1915 г. с подписанием соглашения между Россией и Китайской Республикой. Хулун-Буир получил статус специального округа, подчиненного правительству Китая, но с сохранением финансовых полномочий [Дудин 2020: 19].
В июне 1917 г. Хайлар был захвачен отрядами Сэбчжингэ и Бумбажава, представлявшими собой остатки армии Бабужава – одного из лидеров монгольского национально-освободительного движения. Основную массу воинов в них составляли уроженцы Внутренней Монголии, поэтому в источниках часто встречается наименование «харачинский отряд». Ими был упразднен ямынь амбаня Хулун-Буира и создан так называемый ямынь военных чиновников во главе с Чэхэджа, одним из руководителей восстания 1912 г. Амбань Шэнфу и все дауры спешно выехали в Цицикар. Не найдя помощи у китайских военачальников, занятых междоусобными разборками, даурские чиновники Гуйфу, Линшэн, Рунан, Пургету сумели создать отряд в Новой Барге и в августе 1917 г. совместно с полком пограничной стражи Заамурского округа изгнать харачинский отряд из пределов Хулун-Буира [Цыбенов 2017: 208-209]. По другим данным, Хайлар был освобожден небольшим орочонским отрядом во главе с даурами Линшеном и Ухуем и русскими войсками [Мещерский 1920: 11].
В январе 1920 г. администрация Хулун-Буира приняла решение войти в состав Китайской Республики. Автономия региона была ликвидирована с последующим включением в состав провинции Хэйлунцзян. Российский вице-консул в Хайларе П.К. Усатый сообщал 13 января 1920 г., что «баргин-ские представители в Цицикаре подписали телеграфное обращение к китайскому правительству об уничтожении особого положения Барги, выговорив себе право установить новый порядок непосредственными переговорами в Пекине»1. 28 января 1920 г. правительство Китайской Республики отреагировало на телеграфное обращение, издав указ об утрате Хулун-Буиром статуса особой территории. В заметке, опубликованной в «Правительственном вестнике» (кит. Чжэнь-фу гун-бао) от 29 января 1920 г., говорилось, что после неоднократных совещаний стороны пришли к единогласному решению о необходимости уничтожения особого положения2.
В 20–30-х гг. XX в. молодежь Хулун-Буира примкнула к национально-освободительному движению монголов и мировому революционному движению во главе с Коминтерном. Их лидеры Мэрсэ и Фуминтай приняли участие в создании Народно-революционной партии Внутренней Монголии (НРПВМ) и совместно с другими передовыми деятелями Хулун-Буира основали Народно-революционную партию Восточного края (НРПВК). Большое значение для молодых хулун-буирских революционеров имела проблема возвращения Хулун-Буиру статуса независимого региона, что, по их мнению, было возможно лишь с отстранением от власти старых чиновников и изгнанием китайской власти путем вооруженного восстания [Цыбенов 2023б: 24]. Баргинское восстание 1928 г. началось в августе в хошуне синего знамени восточного крыла Новой Барги. Затем повстанцами были заняты территории хошунов синего с каймой знамени и желтого знамени. Некоторое время они имели влияние в хошунах синего, белого и желтого знамен [Кузьмин 2021: 324, 335-336]. Однако с выступлением китайских войск и отрядов хулун-буирского ямыня накал восстания стал затухать. Следует заметить, что во главе бурятских отрядов, снаряженных ямынем, находились Уржин Гармаев и Дугар Табхаев [Базаров 2002: 59]. Руководитель восстания Мэрсэ и его сподвижники стали переселять аратов хошунов синего, белого и желтого с каймой знамен Новой Барги в МНР. Всего было переселено несколько сот человек [Кузьмин 2021: 340]. Принципиальные разногласия, отсутствие налаженного взаимодействия и поспешность в выводах явились сначала предлогом партийного раскола, а затем привели к провалу баргинского восстания 1928 г., ставшего началом конца недолгой, но бурной деятельности хулун-буирских революционеров.
После захвата японскими войсками Северо-Восточного Китая в марте 1932 г. была создана провинция Хинган во главе с Линшэном. С 1932 г. Хулун-Буир именовался Северной областью провинции Хинган, с 1934 г. он стал отдельной провинцией Северный Хинган. В марте 1936 г. на совещании губернаторов хинганских провинций в г. Синьцзине Линшэн, к тому времени негласно считавшийся другом СССР и МНР, раскритиковал так называемые основные проблемы Японии. В апреле 1936 г. японцы казнили его и трех его сподвижников [Цыбенов 2023а: 88], и новым главой провинции Северный Хинган был назначен Эрхимбато. До этого назначения он являлся начальником Западного новобаргутского хошуна, был в лагере китаефилов и к японцам не примыкал [Кузьмин 2021: 365]. Однако в наших экспедиционных материалах 2019 г. имеются записи, что Эрхимбато, происходивший из рода галзут, был уроженцем хошуна синего знамени и с 1921 г. был угур-дой восточного крыла Новой Барги, с 1932 г. возглавил указанное крыло в качестве главы хошуна1. Эти противоречивые факты, конечно же, требуют дальнейшего детального изучения административного устройства хошунов Хулун-Буира и биографий чиновников.
С объявлением войны Японии 9 августа 1945 г. войска Забайкальского фронта за несколько дней заняли территорию Хулун-Буира. Серьезное сопротивление оказывал лишь японский гарнизон Хайларского укрепрайона, сдавшийся 18 августа 1945 г. В конце сентября – начале октября 1945 г. состоялся исход в МНР около 1 000 юрт из хошунов белого с каймой, желтого с каймой и белого знамен Новой Барги. Позже в Восточном аймаке МНР из них был создан сомон Хулунбуир. Поводом для переселения баргутов послужила неразрешенность высшими кругами СССР и МНР вопроса о воссоединении Хулун-Буира с МНР [Кузьмин 2021: 379, 382].
Гражданская администрация Хулун-Буира была создана в Хайларе 18 сентября 1945 г. под руководством КПК. У руля власти фактически оставались прежние чиновники периода Маньчжоу-Го, возглавляемые Эрхимбато. В начале октября 1945 г. администрацию перевели в разряд местных органов власти, сам регион был включен в состав воссозданной провинции Хинган. Тогда же Эрхимбато предпринял неординарный шаг – провозгласил новую автономную область Хулун-Буир и объявил об этом Сталину, Чан Кайши и Чойбалсану. Последнему в письме от 15 октября 1945 г. Эрхимбато сообщал, что малочисленный и слабый в военном отношении регион мог бы объединиться с МНР. В то же время новая власть пыталась придерживаться нейтралитета, не отрицая прямо суверенитет Китая над Внутренней Монголией, но и не поддерживая китайских коммунистов [Кузьмин 2021: 385]. По другим данным, в октябре 1945 г. была создана автономная провинция Хулун-Буир. Состав правительства был разнородным, в нем имелись различные группы, между которыми были противоречия. Они не были готовы к встрече ни с КПК, ни с ее вооруженными силами, и в то же время в их составе не было группы, которая могла бы противостоять Гоминьдану. Поэтому в городах и деревнях, подвластных правительству автономной провинции Хулун-Буир, усилилась тайная работа разведки Гоминьдана. Просуществовало правительство недолго, в 1946 г. оно было упразднено [Цыбенов 2022: 305].
Ситуация стала обостряться с связи с переносом в июне 1946 г. штаб-квартиры Внутримонгольского объединенного союза движения за автономию Монголии из Ванъемяо в Хайлар. Его глава Буянмандах стал заместителем председателя монгольской прокоммунистической администрации в Хайларе, что вызвало противостояние с Эрхимбато в октябре 1946 г., завершившееся исходом сторонников коммунистов в Чжаланьтунь [Кузьмин 2021: 389]. В ноябре 1946 г. и январе 1947 г. китайские власти подтвердили право Хулун-Буира на автономию. Между тем весной 1947 г. начался новый виток внутренней борьбы. Она была связана с образованием группы в провинциальном управлении, поставившей своей целью лишение дауров властных полномочий. Ее сторонники выступали за освобождение даурами должностей в провинциальном управлении, основным доводом явилось допущение ими русского капитала в регион. Позитивные перемены для Хулун-Буира, очевидно, начались с 1 января 1948 г., когда статус автономной области был упразднен, и регион в качестве аймака был включен в состав Внутренней Монголии. После ухода в отставку Эрхимбато в марте 1948 г. аймак возглавил его сподвижник Дугаржав – бывший чиновник Маньчжоу-Го, проходивший обучение в Японии и работавший в МНР [Кузьмин 2021: 389-391].
11 апреля 1949 г. правительство АРВМ издало указ об объединении аймаков Хулун-Буир и Нонни-мурэн. Новая административно-территориальная единица стала называться Хулун-Буир и Нонни-мурэн аймак, сокращенное название – Хуна (от первых слогов в названиях аймаков, «Нонни» на кит. яз. звучит как «Навэн»). В результате очередных административно-территориальных изменений образование «Хулун-Буир и Нонни-мурэн аймак» прекратило свое существование, и в 1954 г. был создан аймак Хулун-Буир [Цыбенов, Юй Шан 2017: 117].
Таким образом, историческое развитие аймака Хулун-Буир (с 2001 г. – городской округ) в определенные периоды было связано с восточной частью Внутренней Монголии. В целом, становление и развитие провинциальной администрации в первой половине XX в. происходило в условиях китайско-российско-монгольского приграничья и в рамках многостороннего политического взаимодействия. Особую роль в этом процессе играли и межэтнические взаимоотношения между различными монгольскими и тунгусскими этническими группами, населявшими хошуны Хулун-Буира.