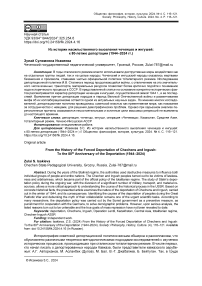Из истории насильственного выселения чеченцев и ингушей: к 80-летию депортации (1944-2024 гг.)
Автор: Исакиева З.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В годы сталинского режима власти использовали деструктивные меры воздействия как на отдельные группы людей, так и на целые народы. Чеченский и ингушский народы оказались жертвами беззакония и произвола, ставшими частью официальной политики тоталитарного режима. Исследование депортационной политики И.В. Сталина в период продолжающейся войны, с отвлечением на это значительного числа военных, транспорта, материальных ресурсов позволяет более критично подойти к пониманию хода исторического процесса в СССР. В представленной статье на основании конкретно-исторических фактов рассматривается характер депортации чеченцев и ингушей, осуществлённой зимой 1944 г., и ее последствий. Выявление причин депортации народов в период Великой Отечественной войны и развенчивание мифа об их коллаборационизме остается одной из актуальных научных задач. По мнению многих исследователей, депортационная политика проводилась советской властью как превентивная мера, как наказание за сотрудничество с немцами, для решения демографических проблем. Однако при серьезном анализе перечисленные причины оказываются несостоятельными и истинные цели массовых репрессий не выявлены до настоящего времени.
Депортация, чеченцы, ингуши, операция «чечевица», казахстан, средняя азия, тоталитарный режим, чечено-ингушская асср
Короткий адрес: https://sciup.org/149145361
IDR: 149145361 | УДК: 93/94“1944/2024”:325.254.6 | DOI: 10.24158/fik.2024.4.16
Текст научной статьи Из истории насильственного выселения чеченцев и ингушей: к 80-летию депортации (1944-2024 гг.)
«Убийство чечено-ингушского народа: народоубийство в СССР» зарубежный историк чеченского происхождения А.Г. Авторханов осветил историю депортированных чеченцев и ингушей. В опубликованных в Мюнхене, Анкаре и Стамбуле (1951–1956) трудах перечисленные авторы оценивали политику депортации кавказских народов как политику геноцида.
В 1970-е гг. советский историк А.М. Некрич в труде «Наказанные народы»1, изданном в Нью-Йорке, определил основные этапы насильственных переселений, численность и этнический состав депортантов, их участие в экономическом развитии тоталитарного государства.
Различные аспекты истории депортированных народов и социальных групп разработали ученые Н.Ф. Бугай и В.Н. Земсков. Их плодотворная научная работа сыграла значительную роль в развитии дальнейших исследований.
Историко-документальные публикации и научные труды X.-М. Ибрагимбейли, Х.Х. Бокова, А.М. Гонова, Г.А. Гакаева, Р.С. Тебуева, Б.Б. Темукуева, И.В. Алферовой, А.Н. Кичихина, А.Н. Курочкина, Г.Н. Кима, В.А. Исупова, В.М. Лукьяева, А.Д. Койчуева, А.Х. Карова, З.А. Шахбиева, Д.В. Шабаева, Д.Д. Гакаева, М.Н. Музаева, Б.М. Зумакулова, Х.-М.А. Сабанчиева, А.И. Тетуева, В.Х. Акаева, А.М. Бугаева, Я.С. Патиева, Л.М. Паровой, Д.М. Эдиева, Р.Р. Баева, Э.А Аджиевой, К.И. Чомаева, М.Н. Жабоева, В.Ю. Муртазалиева, И.М. Шаманова, С.С. Цуцулаевой и других на документальной основе освещают различные аспекты депортации и реабилитации северокавказских народов (Шотбакова, 2022: 171).
Вопросы пребывания и адаптации депортированных народов с позиций «принимающих сторон» исследуются в трудах казахстанских и киргизских историков: М.К. Козыбаева, Ж.Б. Абы-лхожина, К.С. Алдажуманова, М.Т. Баймаханова, Ж.А. Ермекбая, А.А. Гунашева, Н.А. Аубова, З.Г. Сактагановой, В.В. Козиной, Л.К. Шотбаковой, С.И. Бегалиева, Л.Н. Дьяченко, Б.Д. Абдрахманова, Г.Д. Джунушалиевой и др.
Повседневная жизнь и стратегия выживания спецпереселенцев в годы вынужденного переселения нашли отражение в исследованиях А. Айсфельда, Г. Кана, Л.А. Михайловой, В.Б. Убу-шаева, К.Н. Максимова, В.Г. Шнайдера, А.Ж. Габдуллиной, С.И. Аккиевой, М.А. Арапиева, P.C. Агиева, Л.Я. Арапхановой, З.М. Борлаковой, В.И. Котова, E.H. Наумовой, A.C. Хунагова, Г.Х. Локаева, М.М. Ибрагимова, З.С. Исакиевой и др.
Исследованием вопросов и проблем принудительного переселения народов СССР в 40-е годы XX в. занимались С.У. Алиева2, В.А. Бердинских3, П.М. Полян4, А.Н. Яковлев и Н.Л. Поболь (Сталинские депортации, 1928–1953…, 2005), М.Г. Степанов5 и др.
В экстремальных условиях Великой Отечественной войны тотальной депортации с лишением национальных автономий были подвергнуты немцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы и ингуши, балкарцы, крымские татары . Так, 28 августа 1941 г. Президиумом Верховного Совета СССР был подписан Указ «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», при реализации которого с 3 по 20 сентября 1941 г. было выселено более 1 млн немцев (Сталинские депортации, 1928–1953…, 2005: 8).
По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 1943 г. «О ликвидации Карачаевской автономной области», с 2 по 5 ноября 1943 г. весь карачаевский народ был депортирован в Казахстан и Киргизию. 27 декабря 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была ликвидирована Калмыцкая АССР. 28–29 декабря 1943 г. проводилась операция по депортации калмыков под кодовым названием «Улусы».
Как считает профессор, руководитель научно-исследовательского центра по изучению истории депортации и возрождения репрессированных народов России В.Б. Убушаев, «истинную правду о депортации того или иного народа мы, наверное, сможем получить со временем и главным образом тогда, когда получим доступ к неизвестным ныне документам, и многое удастся уточнить. Как, например, в отношении насильственного переселения чеченцев и ингушей, когда на заседании Политбюро ЦК ВКП(б), состоявшемся 11 февраля 1943 г., мнения разделились таким образом: В. Молотов, А. Жданов, А. Андреев, Н. Вознесенский – за немедленную ликвидацию Чечено-
Ингушской АССР, а К. Ворошилов, Л. Берия, Л. Каганович, М. Калинин и Н. Хрущев – за проведение выселения этих народов, но после изгнания немцев. И. Сталин склонился ко второму предложению, и было решено депортацию чеченцев и ингушей провести несколько позже, к концу 1943 г.1
Таким образом, вся «законная» нормативная база под страшное преступление – сначала умышленно оклеветать народ в «пособничестве» врагу, сотрудничестве с ним, а затем под этим лживым предлогом выселить его из собственного дома и вывезти на восток, – была выполнена уже в 1943 г.
В то время как от 50 до 60 тыс. сынов Чечено-Ингушетии отважно воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны, а все жители день и ночь трудились на полях и заводах, чеченцев и ингушей внезапно объявили «предателями» и «пособниками врага». Их погрузили в «столыпинские вагоны» и повезли в «великое путешествие» на восток, а куда конкретно – они и сами не знали.
Операцию по депортации иронично назвали «Чечевица» (кукурузный хлеб, распространенный в Чечне и Ингушетии). Реализация операции, как справедливо считает советский историк, исследователь военной истории XX в. А.М. Некрич, «облегчалась тем, что подавляющая часть мужского населения находилась вне территории, где происходила депортация, в рядах Красной Армии, в партизанских отрядах или частично в немецком плену. Эти люди, разумеется, и не подозревали, какая участь уготована их семьям и тем из них самих, кто останется жив»2.
Общим штабом по выселению чеченцев и ингушей, расположенном на даче Северо-Осетинского обкома партии, руководили первый заместитель Л. Берия и И. Серов. Им подчинялись еще три заместителя – Б. Кобулов, В. Меркулов, С. Круглов.
В январе 1944 г. штаб перебрался в г. Грозный, куда прибыл Л. Берия и взял руководство операцией под свой контроль. Он лично руководил войсками НКВД и НКГБ, которые насчитывали около 120 тыс. солдат и офицеров, совершенно не участвовавших в боях, когда решалась судьба страны и вражеские дивизии рвались к нефти Грозного и Баку. С тем чтобы не вызвать подозрений по поводу ввода огромных подразделений Красной Армии и войск НКВД в республику, были распущены слухи о проведении крупных тактических учений в горах Чечни и Ингушетии. Они якобы готовились действовать в горных условиях Карпат, куда Красная Армия вскоре должна была вступить, освобождая страны Восточной Европы.
7 февраля 1944 г. состоялось совещание начальников секторов вместе с их заместителями под руководством Л. Берии, на котором были определены конкретные задачи по организации выселения 459 486 чеченцев и ингушей – это 97 635 семей. Была назначена и окончательная дата выселения – 22 и 23 февраля 1944 г.
23 февраля 1944 г., в день Красной Армии, когда все мужчины должны были собраться в клубах для празднования, началась нечеловеческая операция по тотальной депортации чеченцев и ингушей. Вместо клубов мужчин повезли (и повели) на сборные пункты под усиленной вооруженной охраной3.
Вслед за мужчинами забирали и всех членов их семей. В г. Грозный и в каждое село к тому времени были введены моторизованные части, приехало огромное количество «студебеккеров», которые останавливались у намеченных заранее домов.
Солдаты немедленно начинали выводить людей и размещать по машинам, а в горных селениях – сажали в подводы или сбивали в большие колонны и сгоняли вниз пешком до места сбора. При этом не проявлялось никакой жалости и сочувствия к больным, пожилым, детям. Тех, кто не мог передвигаться, выводили из колонны и расстреливали, даже не разрешая похоронить .
В горном ауле Хайбах Галанчожского района ЧИАССР руководимые полковником НКВД М. Гвишиани каратели собрали и заперли в конюшне местного колхоза «нетранспортабельных жителей» – больных, детей, стариков и женщин – более 700 человек, затем обложили ее сеном и подожгли4.
До начала депортации в стационарных больницах республики находилось до 10 тыс. человек. Из них никто не успел выздороветь и воссоединиться с семьей, они попросту были умерщвлены.
Следует отметить, что в зимнее время из-за отсутствия дорог не было доступа к высокогорным аулам, которых к рассматриваемому времени было 33 с населением 20–25 тыс. человек. Ни автотранспорт, ни повозки-арбы, запряженные лошадьми и волами, не могли передвигаться по бездорожью (Хасбулатов, 2022: 811).
Профессор М.М. Ибрагимов отмечает, что в горных районах (Итум-Калинский, Шаройский) ослабленных людей сбрасывали в пропасть; в селе Урус-Мартан больных людей закопали во дворе районной больницы. В конце марта 1944 г. всех жителей горной Малхисты (Галанчожский район), которых из-за сильного снегопада и бездорожья не смогли выселить, расстреляли (Ибрагимов, 2018).
Вслед за насильственным переселением во многих населенных пунктах уничтожались все жилые помещения, сравнивались с землей кладбища, а надмогильные памятники (чурты) использовались для строительства дорог, фундаментов зданий и свиноферм. В горных районах были разрушены памятники древней культуры, многовековые сторожевые башни.
В историко-географическом исследовании российский ученый П. Полян приводит «численность депортированных на 1 марта 1944 г. Она составила 478 479 чел., из них 387 229 чеченцев, 91 250 ингушей, среди них 500 представителей других народов, в основном аварцы, выселенные по ошибке» (Полян, 2001: 122).
Завершилось насильственное переселение чеченцев и ингушей изданием 7 марта 1944 г. Указа Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устройстве ее территории». Решение приобрело силу лишь через два года, после принятия 25 июня 1946 г. Закона «Об упразднении Чечено-Ингушской АССР и о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область».
В трудное военное время на территории Казахстана и Средней Азии в результате депортации было расселено огромное количество людей, имеющих свои обычаи, традиции, религиозные верования, культурно-языковые особенности, ментальное своеобразие и т. д. Депортированных чеченцев и ингушей распределили практически по всем областям Казахстана: в Алма-Атинской области – 30 839 чел., в Акмолинской области – 59 988 чел., Актюбинской – 20 337 чел., Кустанайской – 45 768 чел., Павлодарской – 42 127 чел., Карагандинской – 38 498 чел., СевероКазахстанской – 39 021 чел., Восточно-Казахстанской – 33 383 чел., Семипалатинской – 32 124 чел., Кызыл-Ординской – 26 594 чел., Южно-Казахстанской – 21 037 чел., Джамбулской – 16 225 чел. (Из истории депортаций…, 2019: 344). Расселение чеченцев и ингушей в Гурьевскую и Западно-Казахстанскую области не было предусмотрено по соображениям военного времени. Однако нехватка квалифицированных специалистов в тяжелые годы войны вынудила направить в объединение «Казахстаннефть» (Гурьевская область) чеченцев и ингушей со всех областей Казахстана, ранее работавших на нефтепромыслах г. Грозного. Были отправлены специалисты и инженеры-нефтяники со среднетехническим и высшим образованием, а также практики из числа операторов и мастеров, имевшие опыт работы в нефтяной отрасли (Ермекбаев, 2009: 101).
В Киргизской ССР чеченцев и ингушей поселили во Фрунзенской, Ошской, Джалал-Абадской, Таласской областях. Как отмечает киргизский историк С.И. Бегалиев, расселяли спецпере-селенцев не только в сельских местностях, но и какую-то часть из них – в городах. К примеру, в г. Фрунзе были размещены 70 семей из депортированных чеченцев и ингушей (267 чел.); в г. Ток-маке Фрунзенской области – 369 семей (1 449 чел.). По Ошской области: в г. Сулюкта – 289 семей (946 чел.), в г. Кызыл-Кия – 122 семьи (587 чел.) (Бегалиев, 2010: 12).
Адаптация чеченцев и ингушей к новым условиям пребывания проходила тяжело. В местах расселения остро стояли проблемы с продовольствием, жилищным обеспечением, трудоустройством. Дефицит материальных ресурсов в принимающих республиках усложнял процесс приспособления вынужденных переселенцев к условиям спецрежима и привлечения их к труду. Вся тяжесть легла на руководителей местных колхозов и предприятий, которые были вынуждены, используя собственные силы и ресурсы, предоставить жилье и работу переселенцам.
Народы, в отношении которых осуществлялась депортация, сопровождающаяся выселением, приобретали статус спецконтингента. В 1944 г. переселенцы получили статус спецпосе-ленцев, наличие которого характеризовалось жесткой административной привязанностью в местах нового жительства к сети спецкомендатур. Согласно положению ст. 135 Конституции СССР за переселенцами сохранялись полноценные гражданские права, помимо тех, что были связаны с выездом за пределы места жительства, которое им определило государство. Фактически спец-поселенцы обладали таким «полноправием», которое отличалось формальностью и декларативностью. Вместе с тем, отмечались и те ссыльнопоселенцы, чьи гражданские права были полностью аннулированы, а их ссылка стала вечной. Официальное упоминание о спецпоселенцах и спецпереселенцах выполнялось исходя из синонимичности представленных понятий1.
Очередным негативным моментом для спецпереселенцев было отсутствие имущественных прав на собственность. Они не могли получить полную компенсацию за свой дом, имеющийся скот и прочие вещи, представляющие хоть какую-то ценность. Их жизнь на новом месте начиналась заново, что не предполагало наличия имущества и средств к существованию. В отношении спецпереселенцев выполнялись унизительные регистрационные процедуры, которые проводились на базе местных комендатур и органов НКВД.
Обязательной процедурой выступала ежемесячная отметка спецпереселенцев старше 12 лет. Для этого им нужно было обращаться в спецкомендатуру. Заведение личных дел осуществлялось в отношении тех лиц, которые достигли возрастной отметки в 16 лет. Они подлежали посемейному учету наряду с ведением персональной карточки. Там, где расселялись чеченцы, со стороны местных властей происходило исполнение указаний, направляемых вышестоящими органами. Ими принимались циркуляры, отражающие показатели повседневной жизни тех, кто был насильно переселен. Процесс выселения базировался на принимаемой нормативной документации.
Постановление СНК СССР «О правовом положении спецпереселенцев», принятое 8 января 1945 г., гласило, что за спецпереселенцами закрепляются такие же права, как и за вольнонаемными. Это касалось вопросов оплаты труда, обеспечения жилищно-коммунальными условиями, питания и реализации прочих нужд, исключая возможность выезда за границу тех районов, где действует поселение. Подобное ограничение действовало даже в период очередного отпуска спецпереселенца.
Спецпоселенцев запрещалось принимать в ВКП (б), ВЛКСМ, в профсоюзы, призывать на службу в Красную Армию. Власти делали все для того, чтобы получение военных знаний и навыков такими лицами было невозможно. Спецпоселенцы не могли также стать комсомольцами и вступить в партию. Творческая жизнь перестала быть доступной для тех, кто относился к интеллигенции или был деятелем искусства. Эффективность использования талантов и навыков различных специалистов отсутствовала. Чеченцы, которые были приняты в комсомол и партию, находились на учете в соответствующих организациях, однако к общественной работе не привлекались. Им позволялось реализовывать свое избирательное право, помимо возможности быть избранными (Шнайдер, 2008).
В опубликованном 26 ноября 1948 г. Указе Президиума ВС СССР шла речь об укреплении режима, действующего в поселениях, за счет установления сроков высылки: если переселение осуществлялось на территорию отдаленных районов страны, то срок не имел ограничения, а право на возврат к прежнему месту жительства не предполагалось. Самовольный выезд за пределы поселения служил поводом для уголовного наказания в виде каторжных работ сроком на 20 лет. Рассмотрение дел о побегах выполнялось при проведении Особых Совещаний на базе МВД СССР.
Вплоть до 1956 г. чеченцы и ингуши, являющиеся спецпереселенцами, находились на учете.
Так, чеченцы и ингуши в составе спецконтингента «официально сохраняли статус граждан страны, но не могли покинуть установленного государством места жительства, что негативно сказывалось на их социальной жизни, которая базировалась на взаимной поддержке членов семьи и родственников. В ходе депортации многие семьи оказались разрозненными. В их соединении определенную роль сыграли органы МВД, которые провели большую работу по розыску таких семей и помогли людям узнать судьбу своих родных и близких» (Исакиева, 2021: 174).
Тейповое родство не позволяло чеченцам и ингушам оставаться самими собой вне общины, отказывать в помощи своим соотечественникам, и этим они отличались от других спецпе-реселенцев (Ермекбай, 2016). Чеченцы и ингуши не оставляли детей в детских домах и при малейшей возможности забирали их в свои семьи . Также стариков, лишившихся кормильцев в связи с голодом, холодом, тяжёлыми условиями и по причине болезней, обеспечивали вниманием и всем необходимым, несмотря на собственные материальные трудности.
Таким образом, проанализировав особенности подготовки и хода депортации чеченского и ингушского народов в восточные регионы СССР, мы пришли к выводу, что их массовое выселение в Казахстан и республики Средней Азии стала политикой, направленной на искоренение национальной самобытности.
Одним из методов проведения депортационной политики была дисперсия народов на огромной территории, история которых в изгнании должна была начаться с чистого листа. Депортированные чеченцы и ингуши прибывали к местам расселения обессиленными, истощенными и больными, к тому же отсутствие элементарных жилищных условий не способствовало выживанию. Причинами смерти в основном назывались дистрофия, желудочные заболевания, тиф. Стояла острая проблема нехватки продовольствия, которое выдавалось по карточкам.
Депортация чеченцев и ингушей, осуществлённая зимой 1944 г., является одной из трагических страниц в истории Советского Союза. Ужасы событий тех лет остались в памяти у выживших и по истечении 80 лет вызывают боль и сострадание их потомков. Переосмысление проблемы депортации помогает осознать общность исторических судеб советских народов.
Список литературы Из истории насильственного выселения чеченцев и ингушей: к 80-летию депортации (1944-2024 гг.)
- Бегалиев С.И. Прием и расселение в Киргизской ССР депортированных народов Северного Кавказа (чеченцев и ингушей) в годы Великой Отечественной войны // Вестник Кыргызско-российского славянского университета. 2010. Т. 10, № 8. С. 11–14.
- Ермекбаев Ж.А. Чеченцы и ингуши в Казахстане. История и судьбы. Алматы, 2009. 508 с.
- Ермекбай Ж.А. Чеченцы и ингуши Казахстана. Астана, 2016. 204 с.
- Ибрагимов М.М. Выселение чеченцев и ингушей: как это было // Современная научная мысль. 2018. № 1. С. 65–71.
- Из истории депортаций. Казахстан. 1939–1945 гг.: сб. документов / под общ. ред. Д.Ю. Абдукадыровой. Алматы, 2019. Т. 3. 708 с.
- Исакиева З.С. К вопросу о депортации народов СССР в годы Великой Отечественной войны // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. Т. 4, № 7 (109). С. 172–176. https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.109.7.141.
- Полян П.М. Принудительные миграции в годы Второй мировой войны и после ее окончания (1939–1953) // Не по своей воле: история и география принудительных миграций в СССР. М., 2001. С. 95–143.
- Сталинские депортации, 1928–1953 / сост. Н.Л. Поболь, П.М. Полян; под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева. М., 2005. 904 с.
- Хасбулатов Р.И. Войны, политика, дипломатия, заговоры, перевороты, появление и исчезновение государств: в 10 т. Том V. Народ с украденной историей. М., 2022. 911 с.
- Шнайдер В.Г. Проблемы социальной адаптации депортированных народов Северного Кавказа в местах спецпоселения (середина 1940-х–середина 1950-х гг.) // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Общественные и гуманитарные науки. 2008. № 11 (66). С. 261–269.
- Шотбакова Л.К. Депортация народов Кавказа в Казахстан: история и проблемы реабилитации // Вестник Карагандинского университета. № 1. 2022. С. 170–180. https://doi.org/10.31489/2022HPh1/170-180.