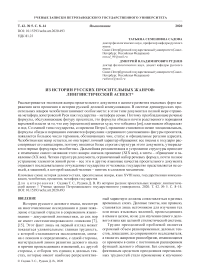Из истории русских просительных жанров: лингвистический аспект
Автор: Садова Татьяна Семеновна, Руднев Дмитрий Владимирович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 5 т.42, 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается эволюция жанра просительного документа в аспекте развития языковых форм выражения акта прошения в истории русской деловой коммуникации. В системе древнерусских просительных жанров челобитная занимает особое место: в этом типе документа в полной мере отражена метафора допетровской Руси как государства - метафора семьи. Поэтому преобладающие речевые формулы, обслуживающие фигуру просителя, это формулы обиды и почти родственного порицания верховной власти за то, что ему (просителю) живется худо, что «обеднял [он], платишком ободрался» и под. Со сменой типа государства, со времени Петра I, прошение становится менее эмоциональным, формулы обиды и порицания сменяются формулами «державного уничижения» фигуры просителя, появляется большое число терминов, обозначающих чин, статус и официальные регалии адресата. Челобитная как жанр остается, но она теряет личный характер обращения: все письма к государю рассматривает его канцелярия, поэтому вводится более строгая структура этого документа, утверждаются первые формуляры челобитных. Дальнейшая регламентация и устрожение структуры приводят к изменению самого названия этого жанра: сначала прошение (XIX век), а затем - обращение и заявление (XX век). Четкая структура документа, ограниченный набор речевых формул, почти полное устранение элементов живой речи - все эти и другие языковые качества просительного документа отражают последовательное отчуждение государства от человека: государство представляется не семьей, а машиной, в которой каждый человек - винтик в сложном механизме.
История делового стиля, просительные жанры, язык xviii века, государственная коммуникация, челобитная, прошение, метафора государства
Короткий адрес: https://sciup.org/147227284
IDR: 147227284 | УДК: 81.23 | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.493
Текст научной статьи Из истории русских просительных жанров: лингвистический аспект
История русского делового языка, несмотря на многочисленные исследования и даже появление отдельной отрасли в современном языкознании – документной лингвистики, до сих пор не имеет систематизированного описания [7], [15]. Этот факт лишь на первый взгляд может показаться удивительным: главная трудность, с которой сталкиваются исследователи, связана с поиском и определением, с одной стороны, магистральной линии развития делового языка и причин происходивших изменений, а с другой стороны, с отбором тех единиц в деловых текстах, которые имеют наиболее репрезентатив-
ный характер и должны сопоставляться в разных временных слоях. Деловые тексты, как правило, становятся лишь источником для изучения тех или иных языковых явлений, происходивших в языке в целом, но не для изучения самого делового языка как цельной стилистической системы.
Трудно преодолимой проблемой является огромный объем разновременных деловых текстов, дошедших до современного исследователя, а также их жанровое разнообразие, изменяющееся со временем в связи с постоянным расширением функций делового общения. Без сомнения, эффективным средством преодоления перечисленных трудностей стало применение к изучению делового языка (в том числе в диахронии) теории речевых жанров.
О ЖАНРОВОМ ПОДХОДЕ В ИЗУЧЕНИИ ДОКУМЕНТНОГО ЯЗЫКА
Жанровый подход в изучении столь разных по функции и назначению текстов позволяет показать их жесткую обусловленность прагматическими условиями, в которых эти тексты создаются. Причем в число прагматических факторов деловой коммуникации включаются не только адресат и адресант, информация об их целях и интенциях, но и сведения о способе речевого взаимодействия адресата и адресанта, которое всегда имеет отчетливо исторический характер. Последний фактор чаще других становится ключевым в выборе языкового оформления того или иного документа, поскольку способ взаимодействия власти и общества неизбежно навязывается государством.
Документная коммуникация по своему первичному назначению имеет отчетливо государственный характер, составляя основу государственной коммуникации: государство активно вмешивается в процесс формирования документа, часто определяя не только его форму, но и содержание, а также связь с конкретными ситуациями, наконец, регламентируя речевое поведение автора. Однако вмешательство государства в языковое оформление документа имеет и свои пределы, обусловленные, с одной стороны, уровнем развития языка той или иной эпохи, с другой – навязанной государственной властью формой общения с обществом, которая связана в том числе с уровнем демократичности этого общения. Характер общения с властью во многом определяется и так называемой метафорой государства [5: 152], а именно – историческими принципами его устройства, целью и ценностными установками государства, декларируемыми властью и принимаемыми обществом.
«Метафора власти выступает как способ познания ее глубинного содержания (когнитивная функция) и как модель поведения между участниками политической коммуникации (моделирующая функция)» [11: 174].
РАННИЕ ЖАНРЫ-ПРОШЕНИЯ: ЖАЛОБНИЦА, СЛЕЗНИЦА, ЧЕЛОБИТНАЯ
Показательна (в аспекте сказанного) история просительных документов, направляемых от частных лиц в государственные органы власти и ярко демонстрирующих так называемую вертикальную социальную коммуникацию, в данном случае – «снизу вверх»: от человека к власти [4]. Просительные документы (жан- ры-прошения) имеют длительную историю под разными названиями: жалобница, слезница (слезная жалоба) (XV–XVI века), челобитная (последняя четверть XVI века – 1780-е годы), прошение (с конца XVII века до 1780-х годов одновременно с челобитной, с 1786 года (вместо челобитной) до 1917 года), заявление (а также обращение , жалоба, просьба, ходатайство) [14: 103, 106]. Смена названий просительных документов – сама по себе – факт примечательный: зачастую такая смена сопровождала очередной период значительных государственных преобразований в стране, неизбежно отражающихся на «вертикальных» отношениях между человеком и властью.
Первоначальное название этого жанра - жа-лобница – указывает на исходную связь просительной речи (и письменной, и устной) с почти «семейным отношением» к властному лицу, от которого ждут не столько действий, сколько ответной жалобной эмоции, сходной с родительским участием. Не случайно жалоба в народной речи «это и ‘изъявление обиды <…> в широком диапазоне оттенков чувства и переживаний – от сетования, печали и просьбы о помощи до ропота, упреков и хулы’, и в последовательной метонимической номинации – ‘дорогой, милый человек, кто вызывает жалость’» [6, I: 252]. Такие отношения характеризуют онтологически родовое общество, при котором государство – семья, а властное лицо – родитель, старший рода, к которому обращаться и страшно, и вольно одновременно, потому что «старший» имеет право на наказание и милость, а «младший» беспрекословно признает это право, но неизменно то, что духовно это родственники, близкие люди.
Название челобитная утвердилось в приказный период России. Происхождение названия возводят к сочетанию бить челом ‘низко кланяться’, известному в русском языке с конца XIII – начала XIV века. По одной из версий, это сочетание является калькой с китайского языка, проникшей в русский язык через посредство тюркских, где «дословно значит ‘головой бия, делать заявление’» [13: 71]. Если это так, то любопытным оказывается предпочтение лексемы «чело» относительно близких ей синонимов древнерусского языка «лоб» и «голова» при калькировании исходного заимствованного выражения. Можно объяснить это предпочтение тем, что «чело как ‘верхняя часть лица <…> зримый образ духовных сил человека’» [6, II: 479] наиболее точно указывает на степень подчиненности человека в изменившемся государстве: это уже не столько обращение с просьбой о помощи близкому человеку, сколько покорное и смиренное самоуничижение перед «внешней» властью с желанием обратить на себя высочайшее внимание. Это несколько иной тип общественного взаимоотношения – признание права верховной власти на покорение духа человека. Можно также предположить, что выражение бить челом проникает в русский язык в результате монгольского завоевания, отражая знакомство монголов с китайской культурой управления после завоевания Китая. Слово «челобитная» как лексикализован-ное словосочетание в форме субстантивированного прилагательного ярко демонстрирует так называемую экономию языковых средств, столь характерное для устной речи языковое явление. Следует думать, таким образом, что термин «челобитная» – единица живой речи, которая уже к XVII веку имела терминологический характер в деловой коммуникации. К этому времени челобитная включала множество функциональных разновидностей, обозначенных эпитетами: исковая, явочная, изветная, повинная, мировая, отсрочная, ставочная, собственно челобитная и др.
ЯЗЫКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОБИТНОЙ КАК УСТОЙЧИВОЙ ЖАНРОВОЙ ФОРМЫ
В языковом отношении жанр челобитной обнаруживал несомненную связь с живой речью, вместе с тем для него была характерна достаточно жесткая структурированность. Челобитная состояла из трех частей: 1) в начальной части указывался царский титул, сочетание «бьет челом», автор челобитья, его социальный статус; 2) в основной части излагалось содержание просьбы; 3) заключительная часть включала обращение к адресату и глагол смиловаться или пожаловать (или оба сразу) в форме императива. Например:
«Црю гсдрю и великому кнзю Але^пю Михаиловичу всеа Русии бьет челом холоп твои сотник московскихъ стрелцов Ганка Бибиков служу я хо-лоп твои тебп гсдрю всякие твои гсдрвы службы и одолжал великим долгом и обеднял платишком ободрался и пит и есть нечево млсрдыи гсдрь црь и велики кнзь Але^пи Михаиловичь всеа Русии пожалуи мнп бедному и должному холопу своему на платишко и что пить и есть какъ тебп млсрдному гсдрю о мнп бгъ известит црь гсдрь смилуися пожалуи» [8: 33].
Начальная и конечная части имели устойчивый характер, основная часть была свободнее по исполнению, однако в ней содержались разнообразные устойчивые компоненты.
Связь с исходным бытовым жанром жалобы проявлялась в обилии эмоционально-оценочной лексики, в стремлении разжалобить своего адре- сата и побудить к выполнению нужных для адресанта действий. Однако в отличие от жалобы в челобитной чрезвычайно подчеркивалось могущество адресата (властного лица), его милосердие и справедливость (милостивый, милосердный) и одновременно беззащитность, униженное положение и слабость адресанта.
Смирение духа, читаемое в номинации документа, в полной мере отражалось и в содержании текста челобитной. Последнее подчеркивалось в том числе многочисленными диминутивными формами самоименования челобитчика (полуимена типа Гришка, Васька) и всего, что было с ним связано (домишки, платьишко, службишка и под.), оценочными определениями бедный, виноватый, горький, (много)грешный, нищий, нужный (‘нуждающийся’), последний, сиротский, скудный, убогий и под., которые прилагал к себе проситель. Такое лексическое наполнение челобитной, чуждое современным жанрам с просительной прагматикой (например, заявлению или обращению), отражало зрелое средневековое представление об устройстве государства, которое мыслилось в виде феодального дома с государем, посаженным править волей свыше. Это уже не близкие «семейные отношения», но еще «домашние»: еще признается законное право одного человека стоять над другим в границах общего дома. Этим объяснялся сохранившийся личный характер обращения к адресату в челобитной, использование разнообразных средств воздействия и, среди прочего, форм императива.
ПРОСИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ЭПОХУ ПЕТРА I И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВРЕМЕНА
В результате петровских реформ челобитная как жанр сохранилась (вместе с тем с петровского времени стало параллельно употребляться слово прошение ), однако произошла ее существенная трансформация. Произошло сужение числа документов, называвшихся словом «челобитная»: к эпохе Екатерины II челобитными назывались только некоторые виды документов, связанные с судом, - явочные, апелляционные, исковые, мировые челобитные . Остальные виды челобитных XVII века стали называться иначе - доношение, промемория, прошение и др. Весьма показательно, что в Словаре Академии Российской прошение уже определяется как канцелярский термин – ‘письменное изъявление какого-либо своего желания, подаваемое в судебное место или начальнику’ – и снабжается характерной пометой: «в приказн. нареч.»1.
Появление новых названий документов свидетельствовало о процессе специализации документов. Челобитная как название жанра исчезает в 1786 году, когда вышел сенатский указ, согласно которому из формуляра просительных документов исключались слова бию челом, челобитье, челобитная, которые заменялись на слова прошу, прошение, приношу жалобу [10: 714]. В переименовании челобитных прослеживается стремление государства разорвать с предшествующей приказной традицией.
Петровские преобразования не привели к исчезновению челобитных, однако челобитные претерпели ряд изменений в своем формуляре, композиции и отчасти языковом оформлении. Изменились принципы взаимодействия между автором челобитной и адресатом. Указ от 3 января 1702 года предписывал, чтобы челобитные и прочие просительные документы подписывались не полуименем, а полным именем и фамилией. В марте 1702 года был издан указ, касающийся формы прошений на царское имя, которые должны были начинаться формулой Державнейший царь, государь всемилостивейший , а заканчиваться Вашего Величества нижайший раб .
Указ «О форме суда» от 5 ноября 1723 года оговаривал структуру челобитной и давал ее образец:
«Титло
Потом бьет челом имрак на имрака, а в чем мое прошение, тому следуют пункты, и писать пункт за пунктом.
Прошу Вашего Величества о сем моем челобитье решение учинить.
Все суды и розыски имеют по сей форме отправ-лятца…» 2
Указы 1714 и 1715 годов ограничили подачу челобитных и доношений непосредственно царю, а указ 1718 года запретил обращение к царю с челобитными, установив за это суровое наказание [2]. В этих изменениях прослеживается несколько целей государственной власти. Прежде всего можно отметить, что отношения между автором челобитной и адресатом теряют личный характер: хотя адресант обращается на имя императора, документ поступал в одно из государственных учреждений, то есть коммуникация приобретала опосредованный характер. Следствием этого стала утрата разнообразных средств убеждения адресата, автор больше не использовал эмоционально-оценочную лексику, не пытался его разжалобить – он просил о своем «челобитье решение учинить». Государство властно вмешивается в принципы составления документа: стремясь сделать информацию документа более доступной, оно предписывает изложение по пунктам и по законодательно установленной форме. Пожалуй, самое важное заключается в том, что власти меняют принципы ролевого поведения в просительных документах, навязывая просителям новые номинации и принципы построения документа (европейские по своему характеру). За этими изменениями стоит отказ властей от прежней метафоры государственного устройства: гражданам навязывается новый образ государства-механизма. Документная коммуникация, в частности просительные документы, начинает отражать эту метафору. Язык петровских документов олитературивается, постепенно видоизменяя свою исходную устную основу:
«…обращение к высшей власти, таким образом, теряет свой непосредственный характер, что находит свое выражение в деловых документах, в которых устная, непосредственная традиция заменяется более опосредованной книжной» [12: 108].
В грамматическом отношении весьма примечательной выглядит утрата в челобитных форм повелительного наклонения глагола. Вот пример челобитной 1740-х годов, отразившей изменения, произошедшие в ее формуляре и языке:
«Всепресветлѣишии державнеишиi великиi гсдрь императоръ и самодержец всероссиiскиi гсдрь все-милостивѣишiи
Бьет челом Первого Московского полку прапор-щикъ Григореи Бражников а о чемъ мое прошение тому следуютъ пункты
Минувшаго генваря 30 дня был именованы в гостях за Яузою рекою в приходе церкви Мартына исповедника в доме ассесора Ивана Иванова сна Мокеѣва на лошади своеи мерине рыжемъ грива налево с отметом впряжена в сани пошевни на неи хомут ременнои узда ременная возжи пенковые
И с оного двора не вемь каким случаем оная моя лошадь ушла неведома куды
И того ж генваря 31 дня оную свою лошаду смотрил в приводе при Московскои полици
И дабы высочаишимъ вашего императорского величества повелено было покаsанную мою лошад отдать мне именованному с роспискою
Всемилостивѣишiи гсдрь прошу вашего императорского величества о семъ моемъ прошени решение учинит 1741 году февраля дня прошение писал Московскои полиции копистъ Яковъ Москвинъ к поданию надлежитъ во онои же полиции
К сему прошению Григорей Бражниковъ руку при-ложилъ» [9: 164].
Несмотря на властные усилия, язык челобитных сохранял устно-разговорную основу. Принудительное членение текста по пунктам не могло изменить текучего разговорного синтаксиса документов, хотя и заставляло автора более четко излагать свою мысль.
В дальнейшем обязательное членение текста просительных документов по пунктам исчезло. Кардинальные изменения произошли в языке жанров-прошений в начале XIX века в связи с общим олитературиванием деловой речи в ходе министерской реформы. Как отдельный вид жанров-прошений, а именно – собственно прошение XIX – начала ХХ века обязательно включало в текст комплиментарное сочетание «честь имею» (калька европейских формул учтивости (ср. фр. J’ai l’ honneur , нем. Ich habe die Ehre ), законодательно введенное в деловую документацию в качестве обязательного элемента этого типа жанров в начале XIX века. Например:
«Его высокопревосходительству Г. Министру На-роднаго Просвещенiя, Евграфу Петровичу Ковалевскому.
Отставного артиллерiи поручика Графа Льва Николаевича Толстаго
Прошенiе.
Прилагая при семъ программу журнала Ясная Поляна, имею честь покорнейше просить ваше высокопревосходительство о разрешенiи мне означенного изданiя.
Гр. Левъ Николаевичъ Толстой.
20-го апреля 1861 г.
Жительство имею:
Крапивенскаго уезда Тульской губернiи въ сельце Ясная Поляна»3.
Формуляр прошения отличается большей четкостью: в качестве отдельно оформленных реквизитов в нем представлены адресат, адресант, название документа, подпись, дата и обязательный для XIX – начала ХХ века реквизит «место жительства». Можно отметить смещение первых двух реквизитов вправо, которое продолжилось и в последующем. Язык прошения в этих случаях почти полностью лишен признаков разговорной речи.
В советский период просительные документы вновь переименовываются, отражая изменение отношений между гражданами и властями, на смену прошения приходит заявление : «советский гражданин не просил, а заявлял» [1: 290]. Просительные документы подверглись дальнейшей регламентации и формализации, язык заявления становится суше, он постепенно лишается комплиментарности, характерной для прошения. Эти изменения отражали последовательное обезличивание документной коммуникации, которая все сильнее начинала воплощать лежащую в ее основе механистическую метафору государства. Государственная коммуникация становится все более формализованной, в ней отдельный человек представляется как стандартизированный тип коммуниканта, как «колесик и винтик»4 великого государственного механизма.
В постсоветский период эта тенденция только усиливается. Участники так называемой властной коммуникации – представители государственной власти и общество – сегодня редко общаются напрямую, чаще это общение опосредованно: разросшийся государственный аппарат и бюрократические процедуры безусловно отдаляют человека от властных структур, а коммуникация «снизу вверх» становится все больше формализованной [3: 22]. Это отражается и в языковом устройстве таких современных документных жанров-универсалий, как обращение, заявление, служебная записка. Их «просительная» семантика уже не заключена в названии, она зачастую раскрывается внутри текста и выражается прежде всего личными формами глаголов просить , требовать , устойчивыми сочетаниями обращаться с просьбой , вынужден просить и под. Метафора государства-механизма (машины) в XXI веке получает предельное языковое выражение во всех формах властной коммуникации, не только в просительных жанрах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование диахронических изменений в рамках одного жанра (хотя о единстве жанра говорить в этом случае можно лишь с большими оговорками) позволяет проследить отчетливую связь между изменениями в языке, композиции документа и изменениями в прагматике государственной коммуникации.
Изменение названий просительных жанров, моделей построения текста, их языка в течение XVI–XX веков отражало изменение отношений между просителем и властью. Генетически восходящие к бытовому жанру просьбы, просительные документы на начальном этапе обнаруживали тесную связь с разговорной речью, преимущественно в области лексики и грамматики. По мере отчуждения отношений между просителями и властью, особенно после смены базовой метафоры государства (модель государства-семьи сменяется моделью государства-механизма), усиливаются регулярные начала в просительном тексте – в его структуре и содержании, а также в его речевом исполнении. Речевое оформление этого типа документов с петровского времени испытывает влияние письменной речи, ощутимо возросшее с начала XIX века, когда деловой язык включается в литературный в качестве его функционального стиля. Ощутимо меняется и модальность просительных документов: явная оценочность и прямо выраженная императивность просительных документов допетровского времени устраняются в связи с устранением из деловой коммуникации субъективного начала.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 20-012-00338).
Список литературы Из истории русских просительных жанров: лингвистический аспект
- Грановская Л. М. Русский литературный язык в конце XIX и XX вв.: Очерки. М.: Элпис, 2005. 448 с.
- Емышева Е. М. Законодательное регулирование производства дел по челобитным в первой четверти XVIII века // Делопроизводство. 2006. № 1. С. 75-77.
- Ермаков С. В., Ким И. Е., Михайлова Т. В. Власть в русской языковой и этнической картине мира. М.: Языки славянской культуры, 2004. 409 с.
- Качалкин А. Н. Содержательно-стилевые свойства деловых текстов XVII века // Русская речь. 2014. № 6. С. 69-76.
- Кирсанов Я. А. Метафора машины власти в дискурсе Нового времени (на материале трактата Т. Гоббса "Левиафан") // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Философия. 2009. № 1. С. 151-159.