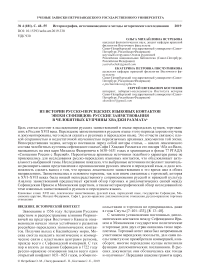Из истории русско-персидских языковых контактов эпохи Сефевидов: русские заимствования в челобитных купчины Хваджи Рахмата
Автор: Ястребова Ольга Михайловна, Писчурникова Екатерина Петровна, Костиков Сергей Евгеньевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (181), 2019 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи состоит в исследовании русских заимствований в языке персидских купцов, торговавших в России XVII века. Персидские заимствования в русском языке этого периода хорошо изучены и документированы, чего нельзя сказать о русизмах в персидском языке. Это отчасти связано с плохой сохранностью и недостаточной изученностью персоязычных архивных документов той эпохи. Непосредственная задача, которую поставили перед собой авторы статьи, - анализ лексического состава челобитных купчины сефевидского шаха Сафи I Хваджи Рахмата и его писаря ‘Абд ал-Вали, написанных на имя царя Михаила Федоровича в 1630-1631 годах и хранящихся в фонде 77 РГАДА «Сношения России с Персией». Персоязычные архивные источники подобного характера ранее не привлекались для исследования русско-персидских языковых контактов, что обусловливает актуальность выбранной темы. Исследование показало, что выбранные источники позволяют значительно расширить наши представления о проникновении русских лексем в персидский язык, и дало возможность сделать вывод о том, что процесс лексического заимствования в это время шел в обоих направлениях. Заимствовались в основном термины, так или иначе связанные с торговлей, которая в XVI-XVII веках была нишей непосредственного соприкосновения русской и иранской культур. Анализу заимствований предшествует краткий обзор торговых и дипломатических связей между Сефевидским Ираном и Московским царством, а также историографический обзор исследований по теме взаимных заимствований в русском и персидском языках.
Xvii век, лексические заимствования, русский язык, персидский язык, государство сефевидов, московское царство, михаил федорович, сафи i, русско-иранские дипломатические отношения, русско-иранские торговые отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/147226457
IDR: 147226457 | УДК: 930 | DOI: 10.15393/uchz.art.2019.330
Текст научной статьи Из истории русско-персидских языковых контактов эпохи Сефевидов: русские заимствования в челобитных купчины Хваджи Рахмата
ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Завоевание в 1556 году Астрахани Русским царством и распространение влияния Рюриковичей на предгорья Восточного Кавказа ознаменовали начало эпохи устойчивого развития российско-персидских экономических контактов. Получив выход к Каспийскому морю, Москва смогла наладить политические и коммерческие связи с властными центрами региона, прежде всего с Сефевидской империей. С тех пор и вплоть до падения Сефевидов в 1722 году русско-иранские отношения знали всего один открытый конфликт 1651–1653 годов, а обмен по
сольствами и торговля не прекращались даже в годы Смуты [7: 401–433], [8: 13–40].
С момента установления постоянных дипломатических контактов между Сефевидским Ираном и Московским государством политические и торговые дела двух стран оказались тесно переплетены. Торговый агент шаха был непременным участником персидских посольств, да и сами послы зачастую не пренебрегали коммерцией, и наоборот, многие персидские купцы исполняли функции дипломатических посланников. В русских документах они обозначались как гонцы и «купчины»1. Передавая шахские грамоты царю, они способствовали поддержанию двусторонних политических контактов; кроме того, они привозили принадлежавшие шахской казне товары и продавали их, а также закупали от имени шаха предметы русского производства.
Купчины обладали значительными привилегиями: они освобождались от таможенных сборов2, им бесплатно предоставлялись склады и транспорт. Важно отметить, что русские «купчины с государевой казною» также совершали дипломатические поездки в Кызылбашское государство, как тогда называли Иран. Самое известное из подобных путешествий было совершено Федотом Котовым в 1623–1624 годах, то есть менее чем за десятилетие до составления документов, которые рассматриваются в данной статье [12].
ПЕРСИДСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XVI–XVII ВЕКОВ
Рост товарооборота и налаживание регулярных дипломатических связей повлекли за собой активизацию культурного обмена, одним из проявлений которого стало взаимное обогащение двух языков, русского и персидского, новыми лексемами.
Для русского языка это была далеко не первая волна иранских лексических заимствований: в нем присутствуют элементы, проникшие еще в общеславянский язык. Процесс заимствования продолжился в средние века [11: 33–44], [18], [21: 142]. Многие персидские слова попадали в русский язык опосредованно – через тюркские языки.
Поскольку пласт персидской заимствованной лексики, вошедший в русский язык в XVI– XVII веках, обширен и хорошо задокументирован в письменных источниках, он привлек особое внимание исследователей. С конца XIX века велись активная публикация и изучение архивных документов, связанных с персидско-русской дипломатией и торговлей, в которых эта лексика присутствует в большом количестве3.
Первая научная работа, в которой были собраны и систематизированы персидские заимствования в деловом языке Русского царства, принадлежит Е. К. Бахмутовой [5]. Ее автор выделила два пути проникновения таких заимствований: через русских пленников, продававшихся в страны Ближнего Востока и Центральной Азии (ясырь, полон), и через дипломатические и торговые контакты. Она также отметила, что языковые связи Ирана и России в тот период были ограничены сферой экономики, не затрагивая сферу литературы, философии и науки [5: 45].
Заимствованные лексемы Е. К. Бахмутова разделила на две тематические группы: термины, связанные с торговлей (названия товаров – прежде всего сортов тканей, меры веса и упаковки, слова, связанные с организацией торговли, площадным искусством, некоторые абстрактные слова), и иранизмы, проникшие в русский язык в XVI–XVII веках в результате знакомства с административным устройством Ирана, его бытом, топонимикой и ономастикой [5: 47–66]. Целый ряд слов из торгового лексикона вошел в состав единого литературного русского языка и существует в нем до сих пор (амбар, караван, сарай), в то время как другие перешли в разряд устаревших и вышли из употребления вместе с обозначаемыми ими реалиями.
Интерес исследователей к иранизмам в русской лексике существует и поныне. Так, Х.-Д. Поль составил перечень слов иранского происхождения со ссылками на этимологические словари [26]; А. Эристон попытался целому ряду слов неясной или спорной этимологии дать объяснение как происходящим из иранских языков [22]. Восточным, в том числе иранским, заимствованиям в языке Московского государства посвящены диссертация и монография Г. Х. Гилазетдиновой [9]. Совместно с Р. М. Акбари ею была написана статья о семантической адаптации русских заимствований в персидском языке XIX–XX веков [10]. Акбари посвятила отдельную статью фонетической трансформации русизмов в персидском языке [4]. В последние годы этой теме уделяли внимание иранские исследователи, в том числе М. Р. Мохаммади и С.-М. Мортазави [16], а Н. Абдалтаджедини написала кандидатскую диссертацию об иранизмах в мемуарах, дневниках и письмах А. С. Грибоедова и А. П. Ермолова, по материалам которой было опубликовано несколько статей [2], [3].
ИЗУЧЕНИЕ РУССКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ
Изучение русизмов в персидском языке велось менее интенсивно. Исследователи относят начало активного проникновения русских слов в персидский язык к XVI веку, то есть к периоду, когда между Русским царством и империей Сефевидов устанавливаются прочные торговые и дипломатические связи [17: 55]. Л. С. Пейсиков относит к «сефевидскому» периоду проникновение в персидский целого ряда русских слов. Однако не все перечисленные им лексемы можно отнести к этому времени: так, упомянутое им слово سماور ( самāвар ) происходит от русского «самовар», но обозначаемые им приборы для подогрева воды стали производиться в России лишь с середины XVIII века; таким образом, лексема, скорее всего, проникла в персидский язык в XIX веке.
Вторая, гораздо более обширная группа проникла в персидский язык в XIX–XX веках. В ней преобладает военная и техническая терминология [17: 55–56]. Иранский ученый А. Садики (علی اشرف سادقی) дал исторический обзор иранско-российских взаимоотношений и составил обширный перечень русизмов, сгруппированных по хронологическому и тематическому признакам. К самым ранним лексическим заимствованиям он относит слова كناس (кинāс) – князь, کپیتان (капӣтāн) – капитан и صوم (сӯм) – рубль, встречающиеся в «Аббасовой мироукрашающей истории» Искандар-бека Мунши, которая была написана в правление шаха ‘Аббаса I (1588–1629)4 [28: 12–13]. Еще одним известным нам заимствованием того времени стало слово гирванка – рус. гривенка, которое, скорее всего, проникло в язык в XVII веке [1]. Столь малое количество русизмов в персидском языке, зафиксированных в эпоху правления Сефевидов, вызывает некоторое удивление на фоне постоянства двусторонних контактов и обилия вошедших в это же время в русский язык персизмов.
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ
С нашей точки зрения, существующее представление искажено неполнотой источников, введенных к настоящему времени в научный оборот. Работы лексикографического характера используют в качестве источников толковые и этимологические словари. Поскольку в России изучение архивных документов по иранскому направлению торговли и дипломатии началось достаточно давно и множество таких документов было издано еще в XIX веке, содержащийся в них лексический материал, в том числе большой объем устаревших слов, попал в поле зрения лексикографов и был включен в словари. В Иране же ситуация складывалась иначе: толковые словари современного персидского языка базируются на художественной литературе, историографии, лексикографических трудах предшественников и исследованиях по современной диалектологии.
Документальных источников, актов и грамот Сефевидского времени по интересующему нас направлению отношений с Россией сохранилось мало. Из них публиковались в основном официальные фирманы, написанные формальным канцелярским стилем. Документы же, касающиеся насущных и повседневных торговых дел, переписка чиновников и купцов того времени, в которой были бы отражены процессы развития языка, практически не сохранились.
В основу исследования нами положены тексты челобитных на персидском языке на имя царя Михаила Федоровича, которые относятся к миссии посланного от имени шаха Сафи I (1629–1642) купчины Хваджи Рахмата. Обязанности последнего как торгового представителя шаха включали в себя не только совершение торгового обмена, но и передачу официальных посланий: письма к русскому царю от шаха Сафи и ответного послания от Михаила Федоровича, в котором тот поздравлял шаха со вступлением на престол и жаловался «на помянутаго купчину его в привозе многих товаров, которыя для избегания по- шлин назвал все принадлежащими его шахову величеству».
Рассматриваемые здесь документы относятся к 1630–1631 годам и хранятся в фонде 77 РГАДА «Сношения России с Персией», в разделе, который назван в описи фонда «Реестр II. Персидска-го двора старых лет делам, в столпцах содержащимся. С 1588-го по 1700 год»5. Опись составлена в конце XVIII века, поэтому несет в себе следы многократного редактирования и перенумерации. Дело № 1 за 1630 год (л. 69об. описи) описано как «Приезд от шаха Сефия купчины Хозя Моллы Рахмета и отпуск его»; оно насчитывает 237 листов и содержит 14 оригинальных челобитных с переводами, выполненными русскими тол-мачами6. Челобитные написаны на персидском языке почерком наста‘лик с элементами шика-сте , на отдельных листах. Переводы толмачей выполнены скорописью, также на отдельных листах. Исследование текста документов проводилось по микрофильмам, что не позволяет дать более полную палеографическую характеристику источников.
Из содержания челобитных следует, что за время своей миссии Хвадже Рахмату довелось столкнуться со многими трудностями: его обвиняли в том, что он выдает свои товары за казенные (и потому беспошлинные); русские купцы отказывались продавать ему соболей из-за запрета; трудно было достать подходящие для перевозки товаров корабли; хозяин двора, в котором купчине было разрешено пользоваться баней, без видимых причин избил его слуг, а во время драки у персидского толмача пропал изумруд. Другой участник миссии просит помощи в поимке беглой ногайской рабыни (ясыря), которую он приобрел в Астрахани.
Примечательно, что в каждом из этих документов встречаются лексические заимствования из русского языка. Для всех челобитных сохранились переводы, составлявшиеся толмачами посольского приказа. Эти переводы далеко не всегда дословно передают текст оригинала, но все же позволяют убедиться в правильном понимании терминов, которые мы характеризуем как заимствования из русского языка, а также уточнить их смысл в данном контексте.
РУССКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ
ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЧЕЛОБИТНЫХ
ХВАДЖИ РАХМАТА И ‘АБД АЛ-ВАЛИ
-
1) کوپچین / کوبچین ( кӯбчӣн / кӯпчӣн ) – купчина.
Торговые люди, продававшие и покупавшие различные товары от имени казны персидского шаха, в персидских документах эпохи Се-февидов именовались тюркским термином киракйарāк (كركیراق), обозначавшим поставщика ко двору шаха или хана [25: III, 593–595]. В русских документах, как указано выше, торговых представителей шаха повсеместно называли словом «купчина». Можно утверждать, что между этими словами существовало устойчивое терминологическое соответствие. Хваджа Рахмат лишь в четырех из тринадцати челобитных называет себя киракйарāк, в остальных же девяти – خواجھ رحمت کوبچین: «купчина Хваджа Рахмат». Купчиной называет себя и ‘Абд ал-Вали. Это слово не зафиксировано в персидских толковых словарях, но встречается в среднеазиатских документах. Так, например, бухарское посольство Кули-бека Тупчи-баши сопровождал кӯпчӣн (قوپچین) Хасан Баба7.
-
2) کناس ( кинāс ) – князь.
Этим словом, которое в четырнадцати челобитных употреблено 23 раза, авторы называют не только людей княжеского достоинства, но и любых высокопоставленных начальников. В переводах толмачей оно в большинстве случаев передается как «воевода».
پادشاه جنت مکان بھ کناسان ھشترخان نوشت کھ آنچھ از رفعت پناه خواجھ رحمت کوبچین بعلت تمغا گرفتھ اند باو واپس دھند کھ مال سرکار خاصھ شریفھ است
Покойный падишах князьям астраханским написал, мол, то, что взяли с высокопоставленного купчины Хваджи Рахмата в качестве пошлины, пусть отдадут ему, так как это имущество благородного двора (здесь и далее после персидского текста будет дан перевод на русский, выполненный авторами статьи, а затем вариант толмача, сопровождавший каждый документ)8.
دیگر عرض میرساند کھ شفقت نموده چون بنام کناس ترک حکم شفقت نموده حکم خواھند داد بنام کناس شولق ھم دو کلمھ نوشتھ بفرستند کھ اگر احیانا باز گریختھ بخانھ چرکس برود کناس شولق میر شھمن ملازم این غلام را گرفتھ بدست این غلام بسپارند
Еще доводит до сведения, что, когда милостью [государя] будут писать приказ терским князьям, написали бы также два слова князю Шолоху9, чтобы если слуга сего раба Мир Шахман снова убежит и предположительно пойдет к черкесам, князь Шолох схватил бы его и передал сему рабу.
В переводе толмача:
…Гдрь мой человека черкасы … и вам и гдрь по-жаловат мне велеть послать к терскому воеводе свое государево повеление чтоб того подговеренного гдрь мой человека Мир Шагмена гдрь мой живого сыскав мне отдали да и к черкасскому к Шелоху князю вам гдрь про то человека своего государева послать чтоб и Шелоху княз ево сыскал же а во всем ваша гдрская воля10.
اتفاقا دو کلام الله مصحف مجید در میان صندوق با بعضی متاع مردم اروس برده بودند در قلعھ قزان مردم این غلام در دکان یکنفر موجک دیده شناختھ اند از دست او گرفتھ بدست بیار خود داده بقلعھ درتوره خانھ پادشاه فرستادند کناسان انجا ازو پرسیده موجک گفت کھ در ھشترخان خریده ام کناسان گفتند کھ تمغای پادشاه بزرگ را دادهء یا نھ در تمغا خانھ نوشتھ اند یا نھ
Так случилось, что в сундуке, который унесли русские, были два Священных Корана. Люди этого раба в Казанской крепости в лавке одного мужика увидели [их], опознали, отобрали у него и отдали своему приставу, а его отправили в тӯра-хāна в крепости. Князья его расспросили [об этом], мужик сказал: «Я купил в Астрахани». Князья спросили: «Платил ли пошлину великого государя, и записали ли их в таможне?»
В переводе толмача:
…унесли сундук с товаром а в том сундуке с товаром были моих две книги Кураны и те государь книги в Казани узнали люди мои у мужика в лавке и за них и поимали и с приставом отосла[л] в город к воеводам и воеводы того мужика расспрашивали где он те книги взял и мужик сказал что он купил в Астрахани и воеводы ево спрашивали в таможне он тою пошлину с них платил ли и записывал ли11.
Слово кинāс (کناس) встречается в исторических источниках. Например, в сочинении «Надирова миропокоряющая история» Мирзы Мухаммада Махди-хана Астарабади так назван русский посол князь Сергей Дмитриевич Голицын, направленный в Персию в 1734 году [27: 229, 246, 247, 259]. Отмечено оно, как было упомянуто выше, и в «Аббасовой мироукрашающей истории» Искандар-бека Мунши, где упоминается прибывший в 1027/1617–1618 году посол «из амиров и князей, пользующихся доверием той (правящей) династии». Садики относит его к самым ранним заимствованиям из русского в персидский язык [28: 12–13].
-
3) بیار ( байāр ) – боярин.
Это слово употреблено в челобитных неоднократно. В толмаческих переводах ему везде соответствует слово «пристав» – так называли бояр, прикрепленных к посольствам или купеческим миссиям. При Хвадже Рахмате приставом был боярин Лаврентий Раевский, его имя упоминается в заголовке перевода одной из челобитных. Пример:
این کمترین غلام بیار خود را طلبیده احوال را عرض کرد بیار این کمترین غلام چند مرتبھ در پیش صاحب خانھ قراول ھا را فرستاد صاحب خانھ را طلبید کھ احوال بھ پرسد صاحب خانھ نیامد آخر بیار باز کس فرستاد کھ چون شما نمیآیید زمرد را پیدا کرده جھة ما بفرست صاحب خانھ جواب ھم نفرستاد و بعد ما بیار خو د را بھ توره فرستا د م در توره کسی ننشست ھ بود
Этот нижайший раб призвал своего пристава и рассказал о произошедшем. Пристав сего малейшего раба несколько раз посылал стражников к хозяину дома, требовал его, чтобы расспросить, но тот не пришел. Наконец, пристав снова послал человека [сказать]: «Если не приходите, то найдите изумруд и пошлите к нам». Хозяин дома не ответил, и после этого мы отправили своего пристава в приказ . В приказе никого не было.
В переводе толмача:
…гдрь толмача моево и били твой гдрь толмача и караульщики то видели и я последней холоп призвал к себе пристава и про тот бои ему росказал и пристав к хозяину двора тово посылал караулщиков неодино-вожды хотя роспросит его зачто драка учинил и он к приставу не пришол и пристав послал к нему после тово и велел ему говорить коли он сам не придет и он бы зумруд велел сыскав отдать и он против тово слова к приставу ничево не приказал и я после тово посылал пристава в приказ для суда и в те поры в приказе никаво небыло12.
-
4) موجک ( мӯджик ) – мужик.
Слово «мужик» упомянуто неоднократно: так назван человек, у которого нашли похищенные во время пожара рукописи Корана (пример см. выше), а также хозяин двора (мужик Афанас), не пустивший купчину в свою баню и побивший его людей13. Встречается оно и в более поздних персидских текстах. Садики отмечает, что в форме موجیک ( мӯджӣк с долгим вторым гласным) оно трижды использовано в путевых заметках об искупительной миссии Хусрава Мирзы (1829), составленных Мустафой Афшаром [19: 25]. Башири приводит это слово в форме موژیک ( мӯжӣк ) в списке заимствований, проникших в персидский язык после революции 1917 года [24: 113]. Однако, как показывают челобитные Хваджи Рахмата, в обиход персидских купцов, ведших торговлю в России, оно вошло на три столетия раньше.
-
5) پودچی ( пӯдачӣ ) – подьячий.
Встречается лишь один раз при упоминании некоего подьячего Ивана:
...کھ از مال سرکار خاصھ شریف بھ سرکار پادشاه بزرگ پودچی ایوان بعضی متاع از دارایی و قدک و غیره خریده اند
…Из имущества благородного двора для двора великого государя подьячий Иван купил некоторые товары из [тканей] дāрāйӣ , кадак и других.
В переводе толмача:
Покупали на тебя государя из казенных товаров государя моего дороги и киндяки и иные розные тавары14.
-
6) توارش ( тувāриш ) – товарищ, компаньон. Встречается один раз:
در زمان پادشاه جنت مکان شاه عباس این غلام کھ بخدمت پادشاه بزرگ آمده بودم در وقت مراجعت ھشترخان و صفینھ کشتی با چارتاق باین غلام شفقت کرده بودند و دوصفینھ کشتی دیگر بھ توارش این غلام صالح بیک داده بودند
Во времена обитающего ныне в раю государя шаха ‘Аббаса, когда этот раб приезжал к великому государю, во время возвращения в Астрахань ему было пожаловано два корабля с чердаком и два других корабля дали товарищу сего раба Салих-беку.
Перевод толмача:
А наперед сего как был я у вас великого государя и мне на отпуске дано было два судна с чардаками да Магметсалибеку дано было дваж судна15.
-
7) اکاز ( укāз ) – указ, повеление. Встречается один раз:
پادشا ه بزرگ ا م ر کرد کھ افناس موجک در باب س نگ ز م رد ق س م بخورد ا م ر از پادشاھ س ت ا م ا در باب زدن غلا م ان پادشا ه را زدن اکاز نکرد ه اند
Великий государь повелел, чтобы мужик Афанас в отношении изумруда принес клятву. На все воля государя. Однако относительно побития рабов государя (шаха Сафи) указа не издали.
Как видно из приведенного примера, единственный раз, когда Хваджа Рахмат использует русское слово «указ», последнее выступает си- нонимом персидско-арабского امر (амр) – «повеление».
Перевод толмача:
…в изумруде… мне ваш государь де указ сказан велено мужику крест целовать а что он государя моего людей бил и в том мне вашего государева указу не сказано16.
-
8) زپاز ( запāз ) – припас, путевой провиант.
الحال ی ک ص ف ینھ کش ت ی بما داده اند ک ھ بغ ای ت کھنھ است و بزرگست جھة زپاز آوردن خوبست
Сейчас нам дали корабль, который очень стар и велик, хорош для перевоза припасов.
В переводе толмача пригодность судна лишь для перевозки припасов, равно как и само слово, которое можно было бы соотнести со словом запāз , отсутствует:
гдрь велел мне дать судно и мне государь указали одно судно ветхо и велико немерно…17.
Хотя в русском языке слово оканчивается на глухой согласный «с», в челобитной оно имеет на конце звонкий «з», возможно, по аналогии со словом «указ». Вероятно, укāз было воспринято через письменные источники, а запāз – из устной речи; при этом звонкий «з» на конце был ошибочно реконструирован. Позднее (вероятно, в первой половине XX века) то же слово «запас» в форме ز اپا س ( зāпāс ) проникло в персидский язык уже в другом контексте, как «запасная часть механизма», чаще всего – запасное колесо автомобиля, «запаска» [24: 111]; [28: 29].
-
9) ستروک ( сутрӯк / сутрӯг ) – струг.
Поскольку слоговой строй персидского языка не допускает в начале слова двух, а тем более трех согласных подряд, произношение этого слова носителем персидского языка в том виде, как оно написано в документе (то есть без протети-ческого и- как, например, в слове истакāн – «стакан»), требует эпентетического паразитического гласного после первого согласного.
Слово «струг» означает особый тип гребного судна, килем которого служил выдолбленный ствол дерева; длина корабля достигала 20 метров, а грузоподъемность доходила до 1000 тонн. На некоторых стругах возводилась специальная каюта для пассажиров и грузов, называвшаяся «чердак». Струги строились в приволжских городах, на Дону [19: 37–38]. Следовавшие в Иран грузы перевозились на них до Астрахани, откуда по морю доставлялись на парусных морских кораблях – бусах. В одной из челобитных русское слово «струг» встречается четыре раза:
اما دو سفینھ ستروک کھ باین غلام داده اند بھ بار مال سرکار خاصھ شریفھ بس نمیکنند و ھر دو ستروک را بار کردهایم کھ جای یکعدد صندوق خالی نیست و اکثر بار در خانھ مانده است و در ستروک نمیتوان بار کرد کھ جا
ندارد ندارد و چند دست قوش کھ بھ سرکار خاصھ شریفھ قوشجیان پادشاه شاه صفی خریده اند جھة ایشان درین دو ستروک جای نیست
Однако два струга, что дали сему рабу, недостаточны для груза казенных товаров. Оба струга я загрузил так, что нет места и для одного сундука, но большая часть груза осталась в доме, на струг погрузить невозможно, так как нет места. И нескольким птицам, которые сокольничие казны купили для государя шаха Сафи, на этих двух стругах тоже места нет.
В переводе толмача:
А что вы великий государь пожаловали велели мне дать под казенные товары государя моего два судна с чардаками и в те чардаки товар наклали и много та-варов осталося на подворье и в те суды невместилося и в чардаке ни на один сундук места неосталось да государя моего птичники покупили несколко птиц про государя моего и тех птиц в тех чардаках посадить негдеж18.
Иранские морские корабли, на которых товары привозились в Астрахань, в двух челобитных Хваджа Рахмат называет арабским словом غراب ( гурāб ), основное значение которого – «ворон». Так же обозначается один из типов крупных военных судов (галера), который использовали арабы на протяжении многих столетий и который за время своего существования претерпевал различные трансформации. Гурāб ы бороздили воды Средиземного моря, западной части Индийского океана, Персидского залива [23: 348–351]. Иранцы также были знакомы с этим типом корабля: в составе флота, который Надир-шах отправил в Оман в 1737 году, было два гурāб а19. Нам неизвестно, использовали ли иранцы корабли такого типа на Каспийском море. Не исключено, что выбор персидским купчиной именно этого термина мог быть продиктован его сходством с древнерусским «корабль» [20: I, 428], хотя последнее слово, насколько можно судить, в первой половине XVII века было больше распространено в литературе, чем в практике устного общения.
Итак, заимствованные русские слова, найденные в текстах челобитных Хваджи Рахмата, относятся к тем же тематическим группам, что и целый ряд персизмов, проникших синхронно с ними в русский язык. Это, во-первых, слова, имеющие отношение к административному управлению и сословной принадлежности ( кинāс , байāр , мӯджик , пӯдачӣ , укāз ), – ср. везир, сердар, мурза, арбоп, нишан в русском языке [6: 60–61]. Во-вторых, слова, относящиеся к организации процесса торговли ( тувāриш , сутрӯг , запāз ) – в русском языке к этой группе относят такие слова, как базар, караван, амбар и др. [6: 52–54].
Из девяти лексем, примеры употребления которых приведены в статье, лишь две – «мужик»
и «запас» – закрепились в современном персидском языке. «Князь» как титул встречается и в историографических сочинениях, остальные же слова не получили распространения за пределами профессионального сообщества купцов, ведших торговые дела на Руси. Русские лексемы, использованные Хваджой Рахматом, можно отнести к разряду иноязычных вкраплений, которые не превратились со временем в полноценные заимствованные слова [13: 57–64]. При этом многие из персидских лексем, проникших в то время в русский язык, сумели стать таковыми.
При заимствовании в персидский слова видоизменились в соответствии с фонетическими законами персидского языка. Объем значения слова «запас» значительно сузился, как это часто происходит с заимствованными лексемами [15: 204]. Сужение объема значения наблюдается и в некоторых других заимствованиях, встреченных нами в челобитных: князь → воевода, боярин → пристав.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Челобитные, относящиеся к приезду в Московское государство персидского купчины Хваджи Рахмата, свидетельствуют о том, что в XVI–XVII веках процесс проникновения заимствованных лексем был двусторонним и параллельным для двух языков, русского и персидского, хотя набор русских слов, зафиксированных нами в персидском языке, гораздо уже в тематическом плане и малочисленнее, чем набор персидских – в русском. Так, отсутствуют русские слова для обозначения вывозившихся из Российского государства товаров. Напротив, в русский язык в это время проникли названия множества тканей и драгоценных камней, ввозившихся из Персии. Тем не менее пока преждевременно делать вывод о полном отсутствии заимствований в этой сфере, так как лишь в одной из челобитных встречается очень краткое перечисление русских товаров (двух видов кож, масла «и других товаров»), а в другой упоминается покупка соболиных шкур. Опыт изучения текста челобитных показал, что архивные источники могут рассматриваться как ценный новый источник по истории языковых контактов, лексических заимствований и, шире, по истории культурных и экономических связей Ирана и России.
* Статья выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-78-10052 «Документальная история русского направления дипломатии Сефевидов (1501–1722 гг.)».
дом будет издан в периодическом издании ИВР РАН «Письменные памятники Востока» (в печати).
RUSSO-PERSIAN LANGUAGE CONTACTS OF THE SAFAVID ERA: RUSSIAN LOANWORDS IN THE PETITIONS OF KUPCHINA KHWAJAH RAHMAT*
* This research was supported by the Russian Science Foundation grant No 18-78-10052 “Documental history of the Russian dimension of the Safavid dynasty diplomacy”.
(In Russ.)
آسترابادی، محمد مھدی بن محمد ناصر. جھانگشای نادری / باھتمام عبدالله انوار. نھران: امجمن آثار و مفاخیر فرھنگی، ١٣٧٧. ٨٦١ ص .27 صادقی، علی اشرف. کلمات روسی در زبان فارسی و تاریخچھ ورود آنھا // مجلھ ربانشناسی. سال ٢٠، شماره ٢. ١٣٨٤. ص. ٣–٤٦ .28
Список литературы Из истории русско-персидских языковых контактов эпохи Сефевидов: русские заимствования в челобитных купчины Хваджи Рахмата
- Абаев В. И. Из истории слов // Вопросы языкознания. 1958. № 4. С. 96-98.
- Абдалтаджедини Н. К фонетико-графической адаптации некоторых топонимов-иранизмов в «путевых заметках» и письмах А. С. Грибоедова // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. Вып. 2 (26). Пермь, 2014. С. 26-31.
- Абдалтаджедини Н. Топонимы-иранизмы в «путевых заметках» и письмах А. С. Грибоедова: К норме картографической топонимии Кавказа XIX в. // Вестник СПбГУ. 2014. Сер. 9. Вып. 3. С. 163-167.
- Акбари Р. М. Фонетическая трансформация русизмов в персидском языке // Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 7 (25). Ч. 1. Тамбов, 2013. С. 18-20.
- Бахмутова Е. К. Иранские элементы в деловом языке Московского государства // Ученые записки Казанского педагогического института. Факультет языка и литературы. Вып. 3. Казань, 1940. С. 40-71.
- Богуславский В. В. Славянская энциклопедия: XVII в.: В 2 т. М.: Олма-Пресс: ОАО ПФ «Красный пролетарий», 2004. Т. 1: А-М. 782 с.; Т. 2: Н-Я. 783 с.
- Бушев П. П. История посольств и дипломатических отношений Русского и Иранского государств в 1586-1612 гг. (по русским архивам). М.: Наука, 1976. 479 с.
- Бушев П. П. История посольств и дипломатических отношений Русского и Иранского государств в 1613-1621 гг. (по русским архивам). М.: Наука, 1987. 278 с.
- Гилазетдинова Г. Х. Ориентализмы в русском языке Московского государства XV-XVII вв. Казань: Казанский университет, 2010. 202 с.
- Гилазетдинова Г. Х., Акбари Р. Семантическая адаптация русских заимствований в персидском языке XIX-XX вв. // Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки. 2013. Т. 155. Кн. 5. С. 89-96.
- Зализняк А. А. Проблемы славяно-иранских языковых отношений древнейшего периода // Вопросы славянского языкознания. № 6. М., 1962. C. 28-45.
- Котов Ф. А. Хождение купца Федота Котова в Персию: критический текст и перевод. М.: Издательство восточной литературы, 1958. 111 с.
- Крысин Л. П. Русское слово, свое и чужое: Исследования по русскому языку и социолингвистике. М.: Языки славянской культуры, 2004. 888 с.
- Левитская Л. С., Дыбо А. В., Благова Г. Ф., Рассадин В. И., Насилов Д. М., Поцелуевский Е. А. Этимологический словарь тюркских языков. Т. 7: Общетюркские и межтюркские основы на буквы «Л», «М», «Н», «П», «С». М.: Восточная литература РАН, 2003. 446 с.
- Маслов Ю. С. Введение в языкознание. 2-е изд. М.: Высшая школа, 1987. 272 с.
- Мортазави С.-М., Мохаммади М.-Р. Персидские заимствованные слова в русском языке и их лексико-тематическая классификация // Исследовательский журнал русского языка и литературы. 2016 (2). Т. 8. С. 69-84.
- Пейсиков Л. С. Лексикология персидского языка. М.: Изд-во Московского ун-та, 1975. 205 с.
- Трубачев О. Н. Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология. 1965. М., 1967. С. 25-102.
- Тушин Ю. П. Русское мореплавание на Каспийском, Азовском и Черном морях (XVII век). М.: Наука, 1978. 186 с.
- Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. 3-е изд. М.: Русский язык, 1999. Т. 1: А-Пантомима. 624 с.; Т. 2: Панцырь-Ящур. 560 с.
- Эдельман Д. И. Иранские и славянские языки: исторические отношения. М.: Восточная литература, 2002. 230 с.
- Эристон А. Иранско-русские лексические связи / Iranian-Russian lexical ties // Russian Language Journal. 1968. Vol. 22. No 83. P. 23-29.
- Agius D. A. Classic ships of Islam: From Mesopotamia to the Indian Ocean. Leiden; Boston: Brill, 2008. 504 p.
- Bashiri I. Russian loanwords in Persian and Tajiki languages // Persian studies in North America: Studies in honor of Mohammad Ali Jazayeri / Ed. Mehdi Marashi. Bethesda, MD: Iranbooks, 1994. P. 109-139.
- Doerfer G. Türkische und MongolischeElementeNeupersischen. 4 Bd. Wiesbaden: Franz Steiner, 1973-1975.
- Pohl H.-D. Слова иранского происхождения в русском языке // Russian Linguistics. 1975. Vol. 2. No 1/2. P. 81-90. 27.