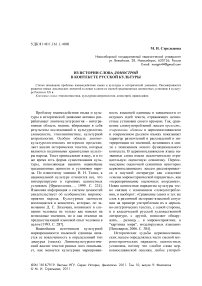Из истории слова домострой в контексте русской культуры
Автор: Стрельцова Маргарита Ивановна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме взаимодействия языка и культуры в исторической динамике. Рассматривается развитие новых лексических значений в словах в связи со сменой традиционных ценностных установок в культуре России в XX в.
Этнолингвистика, культурная антропология, домострой, православие
Короткий адрес: https://sciup.org/14737621
IDR: 14737621 | УДК: 81+811.161.1.+008
Текст научной статьи Из истории слова домострой в контексте русской культуры
Проблему взаимодействия языка и культуры в исторической динамике активно разрабатывает лингвокультурология – интегративная область знания, вбирающая в себя результаты исследований в культурологии, словесности, этнолингвистике, культурной антропологии. Особую область лингвокультурологических интересов представляет анализ исторических текстов, которые являются подлинными хранителями культуры народа. Текст принадлежит языку, и в то же время есть форма существования культуры, позволяющая выявить важнейшие традиционные ценности и установки народа. По известному мнению В. Н. Телия, к национальной культуре относится все, что интепретируемо в терминах ценностных установок [Фразеология…, 1999. С. 224]. Языковая информация о системе ценностей свидетельствует об особенностях мировосприятия народа. Культурные ценности воплощаются в концептах, которые, по замечанию Д. С. Лихачева, возникают в сознании человека не только как намеки на возможные значения, но и как отклики на предшествующий языковой опыт человека в целом [1993. С. 287].
Важнейшим источником культурной маркированности языковой единицы является ее вовлеченность в определенный тип дискурса (текста). Лингвокультурологический анализ текстов разных эпох показывает, как меняется культурная маркирован- ность языковой единицы в зависимости от ведущих идей текста, отражающих ценностные установки своего времени. Так, сравнение словоупотреблений лексем прелесть, очарование, обаяние в церковнославянском и современном русском языках показывает характер разночтений и расхождений в интерпретации их значений, возникших в связи с появлением нового функционального контекста. В церковнославянском языке названные слова имели исключительно отрицательную оценочную семантику. Переосмысление оценочной семантики некоторых церковнославянских лексем рассматривается в научной литературе как следствие «смены мировоззренческой парадигмы», как «переворачивание оценочных координат». Новая ценностная парадигма культуры тесно связана с изменением словоупотребления, и наоборот: «Сравнение одних и тех же слов в различной историко-языковой ситуации на примере употребления их в церковно-литургических текстах, с одной стороны, и в классической русской художественной литературе, с другой, позволяет обнаружить… разницу… в мировосприятиях, в “картинах мира”, моделируемых языками» [Пивоваров, 2006. С. 384].
Исторические судьбы церковнославянских лексем определялись часто сменой мировоззренческих парадигм, ценностных установок, потому что «любое слово церковнославянской лексики, любое употреб-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 9: Филология © М. И. Стрельцова, 2011
ление его в церковнославянском контексте актуализирует его мировоззренческий потенциал.., обнаруживает соотнесенность с нравственными и иными духовно-мировоззренческими категориями» [Пивоваров, 2006. С. 386]. С этих позиций обратимся к истории слова домострой , напрямую связанной с изменением культурных и духовных ценностей в русской истории XIX–XX вв.
В «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского эта лексема отсутствует. Есть однокоренные домъ , домодьржьць , домочадьць [Срезневский, 1958. С. 699]. В «Словаре русского языка ХI–ХVII вв.» домострой – «книга, содержащая свод правил общественного, религиозного и семейно-бытового поведения, а также наставления, относящиеся к ведению хозяйства». В качестве контекста представлено историческое название книги: «Книга г(лаго)лемая домостро<и>, имеет в себе вещи зело полезны, поучение и наказание всякому християнину, мужу и жене, и чадом и рабом и рабыням» [СлРЯ. С. 312]. Поскольку в указанном Словаре других значений у слова домострой нет, естественно предположить, что оно употреблялось как своего рода литературоведческий термин, обозначая вид учительной литературы назидательного характера жанра «поучений», хотя первоначально, вероятно, выступало как имя собственное: Домострой – название оригинального авторского произведения русской литературы XV–XVI вв.
Первая редакция Домостроя составлена в Новгороде в конце XV – начале XVI в. Окончательно текст памятника оформился к середине XVI в. Большое влияние на окончательный текст Домостроя оказали, по мнению В. В. Колесова, перевод на славянский язык в 1479 г. «Василия царя греческого главизны наказательны к сыну его царю Льву» и современные Домострою переводы западно-европейских «домостроев», восходящих к древнейшим текстам такого типа [1990. С. 10]. В Словаре русского языка XI–XVII вв. отмечены однокоренные синонимы: домостроитель , м. со значениями: «1. Хозяин» (словарная статья содержит пример из «Назирателя», произведения средневековой литературы XVI в.), «2. Домоправитель, эконом» (иллюстрируется контекстом из Великих Миней-Четьих (ВМЧ) XVI в.), а также домузаконникъ , м. «Домоправитель, эконом. ВМЧ, дек. 24,
2148, XVI в.) [СлРЯ. С. 313]. Судя по материалам Словаря русского языка XI–XVII вв., лексема домострой появилась не ранее XV в., так как историческими источниками словарных статей для слов домострой, домостроитель, домостроительное, домостроительство, домостройный, домустроитель , домостройство служат тексты XVI–XVII вв., начиная с Хронографа 1512 г. В течение этого времени идет активный словообразовательный процесс, расширяется словарное гнездо за счет новых суффиксальных образований: домострой – домостройный, домостройство; домостроитель – домостроительный; домостроительство. В БАС помещены лексемы: домостройство, отмеченная в Лицевом букваре Истомина 1691 г. со значением «искусство ведения хозяйства» (Слово вошло в тексты для обучения и наставления юношества), домостроительство из Поликарпова Лексикона 1704 г., домостроительный из Вейсманова Лексикона 1731 г. [БАС. С. 966–967]. Материалы для Словаря древнерусского языка И. И. Срезневского, содержащие лексику 2 700 источников XI–XIV вв., повторим, еще не отмечают лексему домострой. Памятник книжной культуры XVI в. Домострой не попал и в список использованных текстов более поздней поры (XV–XVI вв.), которые лишь частично представлены в Материалах. Интересно отметить, что одно из значений слова домъ ‘хозяйство, домашнее устройство’ И. И. Срезневский иллюстрирует текстом из «Поучения Владимира Мономаха», которое является предшественником Домостроя и по жанру «поучений от отца к сыну», известных на Руси с XI в., и по содержанию нравственных наставлений. Здесь же приведено словосочетание дому закон-никъ, не ставшее еще сложным словом наподобие поздних слов-калек домувладыка (XV–XVI вв.), домустроитель (XVI в.), до-музаконникъ (ВМЧ) XVI в. Эта лексика представляет собой кальки разных сложных греческих слов, в состав которых входил компонент oikos- «дом». Многозначная греческая лексема образовывала сложные слова, выступая обычно в значениях 1) «дом»; 2) «имущество»; 3) «семья, род, дом»: oiko-turannos, î – «владыка дома» [Дворецкий, 1958. С. 1157], oiko- despoths, î – «хозяин дома» [Там же. С. 1156]; oikonomos o, h: 1) «управляющий домом, ведущий домашнее хозяйство, хозяин»; 2) «правитель, рас- порядитель» [Дворецкий, 1958. С. 1157]. Составитель современного издания Домостроя В. В. Колесов замечает в предисловии к издаваемому тексту памятника, что слово домострой является калькой греческого oikonomos и буквально значит «экономия» [Колесов, 1990. С. 8]. Однако, судя по словарной статье в Словаре древнегреческого языка И. Х. Дворецкого, в семантике этой греческой лексемы нет даже намека на «экономию». Все приведенные в указанном словаре значения содержат семы «деятель, руководитель».
Расширение лексического значения слова-кальки домострой связано с его употреблением в текстах «поучений» и «наставлений» XV–XVI вв., традиционных для средневековой литературы жанров. Греческое nomos – «обычай, установление, законоположение, закон» – в сочетании с oikos, образуя новую лексему со значением «управляющий домом, хозяин», калькируется русскими книжниками как домузакон-никъ, т. е. дословно переводится каждая часть. Греческие лексемы oikonomos (в приведенных значениях), а также oikonomika в значениях 1) «устроение, устройство»; 2) «управление, руководство»; 3) «заведование домашним хозяйством, домохозяйство», oikonomikh – «искусство ведения хозяйства, экономика», рождая новые слова-кальки в средневековых русских переводах древнегреческих авторов (Ксенофонта «О хозяйстве», Аристотеля «Политика» и других сочинениях этого жанра), употреблялись в близких или даже пересекающихся контекстах. Вторая часть сложных слов-калек (-строитель, - правитель, - законникъ, - владыка) вносила свои оттенки в смыслы этих контекстов, позволяя авторам расставлять необходимые семантические акценты. Новые слова, построенные по продуктивным словообразовательным моделям средневекового русского языка, такие как домостроитель (домустроитель), домострой, домоправитель, домувладыка, домузакон-никъ, выступали как близкие синонимы, имеющие общие морфемы. Причем если домостроитель приводится в Словаре русского языка XI–XVII вв. со значениями, корреспондирующими с греческим oikono-mos, то домострой в нем же – только название книги определенного жанра и содержания. Можно предположить, что на протяжении XVII–XVIII вв. под влиянием содержания исторического памятника, его поздних переработок, использования отдельных разделов текста в других произведениях – «обиходниках» – расширялся диапазон лексического значения слова домострой. Книжные домостроитель, дому-законникъ, домувладыка в назидательных текстах, рассчитанных на демократические слои низких сословий, были неуместны. В новое время конкуренцию им составила нейтральная лексема домострой. Тесная связь слова и специальных текстов определенного жанра, в которых оно употреблялось длительное время, обусловило развитие ассоциативного семантического поля лексемы, появление оценочных компонентов в лексическом значении. Вектор оценок был обусловлен системой культурных ценностей в разные периоды российской истории. Ни в одном словаре XVII–XVIII, первой половины XIX вв. не отмечено негативного оценочного компонента в семантике лексемы домострой, так как духовнонравственной основой жизни русского народа в этот период оставалось православие .
В Толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля лексема домострой толкуется как «хороший хозяин; приставленный к домостройству управитель, дворецкий, эконом // Домострой – письменное наставление домохозяину, дворецкому; рукописи под заглавием домостроя ходят в народе» [Даль, 1978. С. 457]. Сравнивая семантический объем лексического значения этого слова в XVI–XVII вв. и во второй половине XIX в. (первое издание Толкового словаря живого великорусского языка вышло, как известно, в 1863–1866 гг.), видим, что В. И. Даль отмечает не только исторически закрепленное значение «хозяин», но и одобрительный оценочный компонент «хороший», появившийся непосредственно под влиянием образа доброго хозяина, живущего по заповедям Божиим, нравственного идеала, дожившего в народном сознании до XIX в. В. И. Даль сохраняет также отмеченные уже в Словаре Академии Российской 1789 г., в Словаре церковнославянского и русского языка 1847 г., в Словаре И. И. Срезневского слова: домоб-люститель, домовладыка, домоправитель, домостройство, домостроительный, домостройный, домостроитель, домочадец, до-модержец. Необходимо заметить, что В. И. Даль зачастую толкует значения слов этого ряда, обращаясь к синонимам-церковнославянизмам: «домовладелец, м. – хозяин дома, домохозяин и домодержец»; «домовод , м. - хозяин, домострой» [Даль, 1978. С. 467]. Для носителей русского языка пушкинского времени значительный пласт церковнославянской лексики являлся составляющей общенародного языка. Важно отметить, что приведенные сложные слова-кальки активно употреблялись в языке первой половины XIX в. На это указывает активное образование новых слов и развитие новых значений в семантике слова домострой. С течением времени лексема стала чаще употребляться со значением «письменный наказ, наставление по домохозяйству», что, несомненно, обусловлено жанром и функцией тех контекстов, с которыми она была тесно связана. Наполняясь свойственным каждому времени содержанием, семантика слова сузилась, как и само понятие «домостроя». В предисловии автор Домостроя так раскрывал главное в содержании книги: «Поучение и наказание отцев духовных ко всем православным християном, ка-ко веровати во Святую Троицу и Пречистую Богородицу и Кресту Христову Небесным силам, и святым мощем покланятися и Святым Тайнам причащатися и как прочеи святыни касатися… И еще в сей книге из-наидеши наказ… о мирском строении» [Домострой, 1990. C. 30]. Наказы о «мирском строении» и «домовнем строении» стали основой для развития новых значений, выдвинувшихся на первый план в семантической палитре слова. Очередной этап в развитии жанра домостроя во второй половине XVII в. знаменуют стихотворные переложения памятника. Напомним, что и В. И. Даль сообщает в своем словаре о бытовании фольклорного жанра «наказа, наставления»: «рукописи под названием домостроя ходят в народе» [Даль, 1978. С. 467]. Все эти факты свидетельствуют о популярности в народе литературы назидательного характера с наставлениями нравственного, религиозного и хозяйственного содержания. Такие наставления в течение длительного времени оставались в русской культуре правилами бытия: «как жить по совести и умереть достойно», по точному замечанию В. В. Колесова.
Однако в публицистической и художественной литературе второй половины XIX в. слово домострой стало употребляться с не- гативной оценкой, а сам памятник стал символом консервативного и косного прошлого, препятствующего развитию России. Его содержание и наставления «како жити христианом» стали оцениваться в демократической публицистике как суровый регламент, не дающий человеку возможности для творческого развития.
В Домострое всего 67 глав, из них почти половина (30 «указов») содержат «наказания» о духовно-нравственной жизни человека, которые демократическая публицистика не заметила или посчитала ненужными для своих политических целей. Используя созданный негативный образ «домостроя» в общественно-политической борьбе как эзопов язык, она меньше всего заботилась о близости этого образа к тексту самого памятника, содержание которого было изрядно подзабыто. Набиравшая обороты в XIX в. секуляризация русской культуры подхватила этот образ. Русская классическая литература художественно воплотила, эмоционально заострила негативный образ «домостроя», представив его уже в виде «плетки в руках отца» и «дикого понятия о женщине и браке». Так постепенно формируется собирательное понятие «домостроевщины», которое активно эксплуатировалось в языке советской общественнополитической литературы, обрастая новыми контекстами. В полном отрыве от текста исторического памятника начинает существовать его «тень». Материализация «тени» в русском литературном языке зафиксирована словарями, начиная со Словаря Д. Н. Ушакова и включая толковые словари первого десятилетия XXI в.
В Толковом словаре русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова (СУ): «...домостроевский (книжн.) – патриархально-суровый, косный, грубый (о семейном быте). Домостроевские нравы [По названию памятника древнерусской письменности “Домострой”, содержащего свод житейских правил и нравоучений]…» [СУ, 2000. С. 763]. Лексема домострой в словаре отсутствует. В Словаре современного русского литературного языка АН СССР в 17 т. (БАС): «Домострой – название произведения древнерусской литературы “Домострой” XVI в., содержащего свод житейских правил и наставлений. Приводится как образец отсталого, косного, семейно-патриархального быта. = О человеке с отсталыми и косными, суровыми взглядами на семейный быт. Домостроевский… – по-домостроевски» [БАС. С. 970–971]. Если в Словаре Д. Н. Ушакова памятник древнерусской письменности представлен, как было видно, без явных негативных оценок, то составители академического словаря в 17 томах добавляют к определению Д. Н. Ушакова: «Приводится как образец отсталого, косного…быта». Отмечено и новое значение: «человек с отсталыми, косными взглядами…на семейный быт» [Там же]. В Словаре русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой (МАС) домостроевский толкуется как «соответствующий житейским правилам Домостроя; косный, устарелый», а Домострой – это «русский письменный памятник 16 в., содержащий свод житейских правил и наставлений, требующих беспрекословного повиновения главе семьи, ставший позже нарицательным обозначением консервативного семейно-бытового уклада вообще» [МАС, 1988. С. 477]. Нельзя не отметить отсутствие разнообразия в контекстах, которыми составители словарей иллюстрируют эти значения. В БАС и МАС это пример из В. Вересаева: «Прошли те времена, когда по домостроевским идеалам обращались родители с детьми». В лексикографии конца XX в. почти ничего не изменилось в толковании слов домострой, домостроевский. Однако в Словаре современного русского литературного языка (ССРЛЯ) под редакцией К. С. Горбачевича в словарной статье домострой появились пометы «устар. разг.» к значению «О человеке с отсталыми, косными взглядами на семейный быт», что свидетельствует об изменении статуса лексемы домострой в лексическом составе русского языка [ССРЛЯ, 1993. С. 625]. Домострой со значением «человек с отсталыми, косными взглядами на семейный быт» выходит из активного употребления. В Большом академическом словаре русского языка, изданном в 2006 г. (БАС РАН), появилось слово домостроевщина с пометой «разг. неодобр.»: «Отношения, основанные на строгом, беспрекословном подчинении младшего старшему, жены мужу» [БАС РАН. С. 262]. В лексическом значении этого слова, связанного с судьбой Домостроя в русской культуре, отмечены знакомые по другим словарям семы: ‘строгое, беспрекословное подчинение’. Определения косный, отсталый, суровый, устарелый, консерва- тивный, патриархальный содержат современную оценку нравственных идеалов XVI– XVII вв.
В Домострое отражена иная культура. Каждое положение («наказание») опирается, главным образом, на тексты Священного Писания и святоотеческие тексты. О стиле Домостроя точно сказал В. В. Колесов: «…прагматический характер изложения нацелен в Домострое на подачу информации посредством истин Писания, под оценивающим углом которого они измерялись и в котором видели образцы… Непосредственность чувства, искренность и упорное стремление к утверждению нравственного идеала одухотворяет Домострой…» [1990. C. 8]. Автор Домостроя, обращаясь к читателям, напоминает им об ответственности перед Богом не только за свою жизнь, но и за жизнь своих близких: «Господу рекшу: будета оба в плоть едину, апостолу рекшу: аще стражет един уд – то вси с ним стра-жут; – тако ж и ты, не о себе едином пещи-ся, но и о жене, и о детех своих, и о прочих и о последних домочятцех, вси бо есми свя-зани единою верою к Богу. И з добрым сим прилежанием имеи любовь ко всем, по Бозе живущим, и око сердечное, взирающее к Богу, … не себя единого несыи к Богу, но многих, и услышиши: добры рабе верный, буди в радости Господа своего» [Домострой, 1990. С. 31]. Домострой помогал людям понять богословский смысл Евангельских чтений в церкви, сокровенное содержание Псалтыри, знакомил с наследием Отцов Церкви и учил, как согласно с законами духовной жизни строить свою мирскую жизнь: «чистота хранити, и всякого зла не творити». В названии поучений отражены те добродетели, к которым направляет автор читателя: «О праведном житии»; «Како посещати в монастырех, и в больницах, и в темницах и всякого скорбна»; «Како чтити детем отцов своих духовных…» В содержании Домостроя растворен Православный церковный календарь: «А неделя и праздники Господския, и среда и пяток, и Святый Великий пост и Богородичен в чистоте пребывати. А от объядения и пиянства и от пустошных бесед… всегда беречися» [Там же. С. 41]. «Домовний» порядок расписан от Велика дни до «Великия говеина».
Глава семьи, «государь» дома отвечает перед Богом и за «духовное строение», и за «домовнее строение». Отсюда та строгость по отношению к жене, детям и слугам, которая так не нравится современному человеку в этом произведении русской литературы. Автор Домостроя призывает «государя» «спасать страхом» своих домочадцев и самому бояться Божьего суда: «таковый человек Богу угоден и людем честен». Отдельная глава посвящена «мужу», главе семьи. Если он «сам не учит на добро»: «ино суд от Бога примет». «…аще сам творит добро и жену и домочятцев учит, – милость от Бога примет» [Домострой, 1990. С. 57]. В такой перспективе любая бытовая подробность жизни семьи приобретала значительность, и поэтому все повседневные обязанности жены и домочадцев строго регламентированы. Основным мерилом принимаемых решений и действий хозяина является «съвесть». Упрек в «домостроевщине» касается прежде всего отношений к жене и детям. «Государь», в своем государстве отвечающий за порядок, обязан обеспечить нравственность его жителей и устроить их экономически. Воспитание в культуре средневековья имело значение не только педагогическое, но включало и «кормление» – питание. Домострой отражает культуру своего времени в отношении воспитания детей, опирающуюся на опыт святоотеческой литературы, о чем свидетельствует отрывок в 21 поучении «Како детеи учити и страхом спасти»: «Василия Кесареискаго поучение юношам». Анализируя идеологию Домостроя в отношении «женского вопроса», В. В. Колесов цитирует историка XIX в. И. Е. Забелина, полагавшего, что в Домострое представлен идеал семейной жизни, «как он был создан древним русским обществом. Женщина здесь поставлена на видном месте, ее деятельность обширна…» [Колесов, 1990. С. 14].
Домострой можно было бы назвать экономикой нравственности. Нравственные поучения Домостроя стали скрепами семьи, дома для русского человека на долгие годы. Памятник русской литературы XVI–XVII вв. сохранил для нас свидетельство того, что духовно-нравственные ценности нашей культуры не изменились, потому что в их основе лежит евангельская проповедь. В XXI в. Домострой необходимо прочитать заново и увидеть в нем не «косный быт», а Домострой без «домостроевщины». Нельзя не согласиться со словами В. В. Колесова из его вступительной статьи к тексту Домостроя, являющейся, по сути, апологией этого памятника: «Время идет, и то, что вчера представлялось нам архаичным, полузабытым, а то и реакционным, сегодня неожиданно предстает как эталон трудолюбия, честности… чистоты» [1990. С. 24].
FROM THE HISTORY OF THE WORD DOMOSTROY WITHIN THE CONTEXT OF RUSSIAN CULTURE