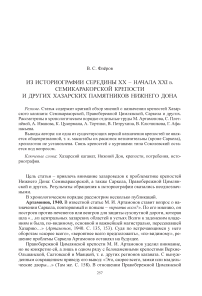Из историографии середины XX - начала XXI в. Семикаракорской крепости и других хазарских памятников Нижнего Дона
Автор: Флров В.С.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: История археологической науки
Статья в выпуске: 245-1, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья содержит краткий обзор мнений о назначении крепостей Хазарского каганата: Семикаракорской, Правобережной Цимлянской, Саркела и других.Рассмотрены в хронологическом порядке отдельные труды М. Артамонова, С. Плетнёвой, А. Иванова, К. Цукермана, А. Тортики, В. Петрухина, В. Ключникова, Г. Афанасьева. Выводы автора: ни одна из существующих версий назначения крепостей не является общепризнанной, т. к. масштабы их раскопок незначительны (кроме Саркела),хронология не установлена. Связь крепостей с курганами типа Соколовский остается под вопросом.
Хазарский каганат, нижний дон, крепости, погребения, историография
Короткий адрес: https://sciup.org/14328353
IDR: 14328353
Текст научной статьи Из историографии середины XX - начала XXI в. Семикаракорской крепости и других хазарских памятников Нижнего Дона
Цель статьи – привлечь внимание хазароведов к проблематике крепостей Нижнего Дона: Семикаракорской, а также Саркела, Правобережной Цимлянской и других. Результаты обращения к историографии оказались неоднозначными.
В хронологическом порядке рассмотрим несколько публикаций.
Артамонов, 1940. В известной статье М. И. Артамонов ставит вопрос о назначении Саркела, повторяемый и поныне – « против кого? ». По его мнению, он построен против печенегов или венгров для защиты сухопутной дороги, которая шла «…из центральных хазарских областей в устьях Волги к задонским владениям и была, по-видимому, основной и важнейшей магистралью, пересекавшей Хазарию…» ( Артамонов , 1940. С. 135, 153) . Судя по встречающимся у него оборотам «скорее всего», «вероятнее всего предположить», «по-видимому», решение проблемы Саркела Артамонов оставлял на будущее.
Правобережной Цимлянской крепости М. И. Артамонов уделил внимание, но не конкретно ей, а лишь в одном ряду с белокаменными крепостями Верхне-Ольшанской, Салтовской и Маяцкой, т. е. других регионов каганата. С вынужденным сокращением приведу его вывод: «Это, скорее всего, замки или владельческие дворы…» (Там же. С. 158). В отношении Правобережной Цимлянской крепости вопрос «против кого?» не поставлен. Семикаракорская крепость вообще не упоминается.
Артамонов, 1958/1959. Замечание М. И. Артамонова при сравнении кирпичей Саркела и Семикаракор: «Семикаракорское городище … по всей вероятности, представляло собою такую же (как Саркел. – В. Ф .) хазарскую крепость, выстроенную с той же целью, что и Саркел, …в основном из сырцовых кирпичей» ( Артамонов , 1959. С. 7). Среди целей постройки Саркела появляется новая: укрепление «пошатнувшегося положения хазар в их западных и северозападных областях» ( Артамонов , 1958. С. 48–50).
Могла ли только одна крепость удерживать северо-западную границу каганата? Артамонов уверен: «Хазары занимали… небольшую территорию по побережью Каспийского моря между Нижней Волгой и северным Дагестаном. Нижний Дон представлял их западную границу. Таким образом, Саркел помещался на границе собственно Хазарии» (Там же. С. 48). Речь шла о границе хазар как этноса, которую до сооружения Саркела и должна была оберегать Семикаракор-ская крепость. Задача заведомо невыполнимая.
Артамонов, 1962. Семикаракорская крепость в книге «История хазар» упомянута только раз, что уже объяснимо. Полагаю, ученый исключил все ранние предположения о ее назначении и статусе по аналогии с Саркелом, посчитав их ненадежными ( Артамонов , 1962. С. 230, 231).
Плетнёва, 1967. Очередной этап изучения Хазарского каганата начинается с книги С. А. Плетнёвой «От кочевий к городам». Что касается Семикара-корского городища, нас ждет разочарование. Автор ограничилась публикацией его плана и отнесла Семикаракоры к немногим «городам» каганата ( Плетнёва , 1967. С. 37. Рис. 9; 46).
О назначении Правобережной крепости написано чуть больше, повторены предположения М. И. Артамонова. «Рассмотрев все белокаменные замки Подо-нья, мы видим, что никакого существенного различия между ними нет. Все они были крупными феодальными гнездами и сооружались с двоякой целью: для контроля над водными путями и для возвышения над оседлым или полуоседлым местным населением… некоторые из них имели, несомненно, оборонное значение для всей салтовской земли» (Там же. С. 43) . Отличие от М. И. Артамонова в том, что она пишет об охране водного пути.
Иванов, 1994. Автор полагал: «хазары, жившие на Нижнем Дону и потерявшие в середине VIII в. лидерство в каганате, могли быть… оппозиционной группой, построившей свою крепость» (Семикаракоры. – В. Ф. ). Правобережную Иванов считает ставкой болгарских ханов ( Иванов , 1994. С. 92, 93).
Плетнёва, 1996. В книге о Саркеле она отстаивает гипотезу о его назначении – караван-сарай. В списке других укреплений Нижнего Дона Семикара-корского городища нет. По ее мнению: «…Саркел – единственный исследованный археологический памятник, принадлежность которого собственно хазарам (их властителям) не вызывает сомнений» ( Плетнёва , 1996. С. 15). Проще говоря, принадлежность хазарам Семикаракорской и Правобережной отрицается.
Цукерман, 1998. Одна из его статей написана с целью: «показать, что лишь контекст венгеро-хазарского конфликта дает объяснение археологических реалий поселений “цимлянского гнезда”, т. е. не только Саркела… но в первую очередь Правобережного Цимлянского городища (ПЦГ)» (Цукерман, 1998. С. 682).
В дискуссии со мной К. Цукерман принимает гипотезу С. А. Плетнёвой о двуслойности ПЦГ (Там же. С. 674, примеч. 31; 682). Кратко мои разногласия с С. А. Плетнёвой заключаются в следующем. По результатам моих раскопок 1987–1988, 1990 гг. я присоединился к точке зрения М. И. Артамонова о том, что Правобережное городище является однослойным, т. е. содержит только остатки крепости ( Флёров , 1996а; 1994). Этот вывод Артамонова первоначально разделяла и Плетнёва, но с 1993 г. пересматривает его ( Плетнёва , 1993; 1994. С. 48–69). Теперь она считает, что городище двуслойное. Первый слой оставлен поселением, гибнущим в 70-х гг. IX в. На месте поселения позже строится крепость, развалины которой образуют второй слой.
Сам К. Цукерман в стратиграфию ПЦГ не вникал, он «оставил археологам интерпретацию остатков материальной культуры» ( Цукерман , 1998. С. 674). Его не удовлетворило, что хронология ПЦГ Артамонова и Флёрова противоречит его хронологии восстания кабаров, но это не довод, а лишь указание на необходимость уточнения как хронологии восстания, так и основания крепости. Тем не менее он признается, что делает ему честь: «Мне, конечно, трудно претендовать на непредвзятость…» (Там же. С. 683).
Тортика, 2006. Историк А. А. Тортика: «Одно из важнейших мест в созданной в хазарское время структуре обороны, пограничного и таможенного контроля занимало, по всей видимости, Семикаракорское городище». Специфика цитаты объясняется тем, что она взята из главы о торговле каганата ( Тортика , 2006. С. 497).
Петрухин, 2005/2011. К 2005 г. относится его высказывание: «Вероятно, система крепостей на Дону должна была не только контролировать регион в целом, но оборонять домен хазарского кагана от непокорных степняков и контролировать как речную магистраль, так и степные дороги – ответвления “шелкового пути”» ( Петрухин , 2005. С. 92, примеч. 1). В 2011 г. он отмечает: «Для понимания исторической ситуации, связанной с походом Святослава, сложно использовать данные археологии: городские поселения Волжской Болгарии и Хазарии исследованы недостаточно» – и добавляет: «Датировка хазарских крепостей нуждается в уточнении…» ( Петрухин , 2011. С. 66, 67). И это действительно так.
Ключников, 2013. Высказал предположение: «Семикаракорская крепость, возможно, принадлежала частным лицам» ( Ивик, Ключников , 2013. С. 192, 193), но кто они, не указано.
Афанасьев, 2010/2011/2016. Г. Е. Афанасьев в 2010–2011 гг. приходит к выводу «о том, что Семикаракорское городище в большей степени соответствует информации византийских источников о расположении Саркела, чем Левобережное, но он (вывод. – В. Ф .) требует отдельного глубокого исследования» ( Афанасьев , 2010. С. 4–5; 2011. С. 109–110), которое будем ждать от автора.
Раздел другой статьи Г. Е. Афанасьева рассмотрим подробнее. В нем он выделил Семикаракорскую оборонительную агломерацию в составе: Семикаракор-ское, Крымское-1, Крымское-2, Золотовское, Золотые Горки, Великокняжеское, Рыгинское городища ( Афанасьев , 2016. С. 49. Табл. 1).
Судя по названию агломерации, Семикаракорское городище в ней основное, а ее протяженность от Рыгинского до ст. Великокняжеской не менее 210 (!) км.
Прежде чем переходить к комментариям по поводу семикаракорской «агломерации», укажу следующее. Г. Е. Афанасьев не первый, кто затрагивает эту группу памятников. В 2001 г. о них писал П. А. Ларенок ( Ларенок , 2001), но не объединял их в искусственную «агломерацию».
О памятниках «агломерации». Местонахождение в Великокняжеской более века назад, вероятнее всего, погибло при прокладке железной дороги; известно находками нескольких обожженных кирпичей. Изготовлены ли они на месте, определить трудно. Нет данных о плане и типе памятника (городище, поселение?)1.
Рыгинское городище известно по описаниям XIX - начала XX в. ( Тимощен-ков , 1905), археологически не исследовано. Расположено на Северском Донце в 96 (!) км от его слияния с Доном. Сегодня скрыто кварталами г. Каменска.
«Городища» у х. Крымского в устье Сев. Донца. Отнесение этих объектов к «городищам» остается под вопросом ( Флёров , 2002. С. 162). Раскопки Крымского-1 , не проводились, план неизвестен. Есть неясного происхождения ямы и линза золы; встречаются редкие обломки кирпичей. И это вся информация. До раскопок я бы не отнес этот пункт даже к поселениям.
Крымское-2 имеет прямоугольный план. Три стороны образованы крутыми склонами балок, но с четвертой памятник не защищен ничем ( Иванов , 2013. C. 51. Рис. 1, 2 ). В 2001 г. до его посещения я допускал, что он мог быть земляным городищем ( Флёров , 2002. С. 162). После посещения в 2011 г. я должен отказаться от этого мнения и определить его на данный момент как поселение с насыщенным культурным слоем и юртообразными жилищами ( Флёров , 1996б. С. 9, 69. Рис. 2).
Золотые Горки вошли в литературу как «городище» по той причине, что Б. А. Раев в 1986–1987 гг. обнаружил россыпи мелких камней, описанные П. А. Ларенком как остатки стен толщиною около 2 м. Он же предположил: «У стен городища исследовано два погребения, инвентарь которых в настоящее время утрачен. Погребения на “Золотых Горках” позволяют сопоставить этот памятник с Семикаракорским и Правобережным Цимлянским городищами и, быть может, свидетельствуют о сходстве судеб этих поселений» ( Ларенок , 2000а. С. 191, 192). Через год появляется предположение об «остатках приврат-ной части крепости» ( Ларенок , 2001. С. 91, 92), что не подтвердилось.
Происхождение камней выяснил В. В. Ключников, нашедший на поселении «вымостки значительных размеров» и развалины каменных строений ( Ключников , 2007. С. 126).
Ситуация с Золотыми Горками стала проясняться с 2002 по 2009 г. по ходу раскопок В. В. Ключникова. Первоначально он продолжал называть памятник городищем (Там же). По завершении работ наименование звучит нейтрально – «памятник», «населенный пункт» (Ключников, 2013. С. 163; Ивик, Ключников, 2013. С. 15–19, 137). Вот что писал сам В. В. Ключников: «…слово “городище”, которым археологи называют остатки бывшего города или укрепленного поселения, к Золотым Горкам мы применяем достаточно условно, не исключено, что это “селище” – древнее поселение, не имеющее фортификации» (Ивик, Ключников, 2013. С. 19). Эволюцию в определении типа памятника его исследователем Г. Е. Афанасьев не заметил.
Золотовское местонахождение на о. Куркин. Сообщения о нем донского историка Е. П. Савельева связаны с поисками города Ахаса: «На всем пространстве… острова разбросаны большие и малые курганы, ямы с массой жженого квадратной формы кирпича и тесаного камня и разный мусор… По берегу Дона… заметны остатки широкой каменной стены с развалинами множества башен, расположенных одна от другой на расстоянии около 10 сажень. Стена тянется… около версты (?! – В. Ф. ). Кладка кирпича и камня была на извести. Камень доставлялся с правого каменистого берега р. Дона. Образцы кирпича и план этого городища мною представлены в 1905 г. в Донской музей. Судя по обширности этого городища и гигантской стене… надо полагать, что это был… именно Ахас… Будущие раскопки в этом городище подтвердят мое предположение» ( Савельев , 1911. С. 2, 3; 2002. С. 187). План Савельева не обнаружен.
О «гигантской» стене В. В. Ключников сообщил мне: «Когда я “бродил” в тех краях, то за Старозолотовской (ранее – Золотовская), чуть выше по течению есть место, где скалистый обрыв близко подходит к берегу. И далее от него идут к берегу и практически уходят в Дон два небольших скальных гребня-останца. Кажется, песчаниковые породы. Даже с небольшого расстояния на первый взгляд они кажутся стенами. Если место заметили и описали в позапрошлом веке с воды, путешествуя по Дону, то вполне могли принять за стены».
С конца XX в. на о. Куркин работал М. И. Краесветный (Новочеркасск). Описание его раскопок в 1998 г., два шурфа, занимает менее страницы. В первом шурфе, 4 × 3 м, на глубине 1,30 м в пепельном слое найдены фрагменты лепной керамики, амфор, обломок костяной накладки с циркульным орнаментом, жилищная обмазка, обломки кирпичей толщиною 4,5–5 см, один 7 см. Второй шурф-траншея прорезал «вал» (длина и ширина траншеи не указаны). В нем обнаружены камни, «составляющие нижний, первый ряд стены шириною 3 м. <…> Стена сооружена на валу, образованном выкидом из рва с внешней стороны». Чертежей, фотографий и рисунков нет (!), проверить по ним интерпретацию найденного как стены невозможно. Сообщается также о салтово-маяцком поселении на востоке острова ( Краесветный , 2000. С. 97, 98).
Работы 1999 г. на площади 9 × 11 м шли в районе разведочной траншеи с остатками «оборонительной стены». Важное замечание И. М. Краесветного: «в настоящее время каких-либо видимых признаков башен не наблюдается». Далее, однако, упоминая обнаруженный под дерном развал камней, он пишет о нем как о башне со знаком «?», сложенной насухо. В следующей фразе знак вопроса отброшен, а ее кладка описывается как «панцирная» (? – В. Ф.) с забутовкой, сохранившаяся на два-три слоя кладки. Далее: «С внешней стороны нижние камни зафиксированы на глубине 120 см, с внутренней на глубине 190 см. С внешней стороны башни, при обрушении, вероятно, камни скатывались под вал в оборонительный ров (исследования вала с предполья пока не производились). Камни внутренней ее части рушились по внутренней стороне вала и скатывались в ровик, отделяющий ее от городища. В этой части обнаружено большинство кирпичей. Следует отметить, что внешняя сторона представляет собою не сплошную стену, а имеет “проходы” под углом 45°. Эти проходы также забутованы, их ширина доходит до 50–60 см. Следов позднейшей выборки камня нет. Создается впечатление, что стена на данном участке была создана наскоро, в условиях непосредственной опасности» (Краесветный, 2001. С. 100, 101).
Разобраться в этих описаниях трудно, они вновь не иллюстрируются чертежами, которые должны подтвердить написанное.
В 2000 г. на городище проведена геофизическая разведка, по результатам которой были заложены шурфы. В шурфе № 3 на глубине 60 см обнаружены, по мнению Краесветного, «остатки печи (?)». «Печь (уже без знака «?». – В. Ф .), в основном, сложена из дикого песчаника, но кроме него были использованы кирпичи. В центре развала камни имеют следы длительного воздействия огня». Размер кирпичей 27 × 27 × 5 см. Автор предполагает, что «печь» находилась в полуземляночном жилище (Там же. 2001. С. 104).
По итогам трехлетних работ М. И. Краесветный изложил предварительные выводы (Там же. С. 107). Перечислю и прокомментирую их.
«1. Городище с кирпичными сооружениями было основано на острове в VIII–IX вв. и относится к салтово-маяцкой культуре».
Обратим внимание на то, что «кирпичные сооружения» не конкретизированы. Найдены все-таки не фортификационные сооружения, а лишь отдельные кирпичи, количество которых автор не указывает. Происходить они могли из Се-микаракорского городища, как и черепица на курганах, упоминаемая Е. П. Савельевым. Семикаракоры были источником кирпичей и для Крымского поселения. Я имел возможность держать в руках золотовские кирпичи, они действительно не отличаются от семикаракорских. Что касается стены и башни из камня, то до публикации чертежей и фотографий сказать о них что-то определенное невозможно.
«2. Не исключено, что оно было разрушено или погибло в результате походов князя Святослава против хазар в 965 г. (слой пепла на салтовском поселении)».
На мой взгляд, говорить о причинах завершения жизни на поселении, как и на «городище», преждевременно до установления их хронологии. Исторические построения Краесветного опередили детальное изучение найденных материалов; случай не редкий в археологии. То же относится и к следующему пункту.
«3. Городище возобновилось только через некоторое время (стерильная прослойка между слоями) и существует в X–XII вв., возможно со славянским населением. Население этого времени разбирает кирпичные постройки и использует их не по назначению».
О каких кирпичных постройках пишет автор, опять неясно. Во всяком случае, заметно, что он избегает более определенных выражений. О следах славянского населения судить невозможно и приходится довериться автору.
«4. Оборонительная система (стена, башня), видимо, создается в условиях реальной угрозы в начале XII века. Возможно, что существование городища связано с жизнью Белой Вежи». Комментировать данный вывод излишне. Потребуются многие годы для его проверки путем раскопок на высоком методическом уровне. Сказанное полностью меняет представление о памятнике как о хазарской крепости. Остается добавить, что план памятника в целом, как и оборонительной системы XII в., неизвестен. Весьма вероятно, его выполнению мешает древесная растительность и кустарники.
Раскопки 2001 г. на площади 5 × 8 м около шурфа № 3 освещены несколько подробнее, но вновь без чертежей и рисунков . Упоминаются тонкие культурные слои, разделенные стерильными прослойками. Недоследованный развал камней (на глубине 80 см) определен М. И. Краесветным как «печь». « Предполагалось , что печь относится к жилищу полуземляночного типа... В центре площади раскопа имеется западина глубиной до 25 см, вероятно , от просадки жилища» ( Краесветный , 2002. С. 20).
Ниже следует описание стратиграфии. Под дерновым слоем залегал песок. Далее следует верхний культурный слой толщиною 12 см с костями животных и рыб и ситуациями из камней и следами пожара. Ситуации камня определяются как очаги (? – В. Ф. ), находившиеся на поверхности вне жилищ. Определению контуров жилищ мешает запесоченность слоя.
Следующий слой начинается с 65–70 см. Упомянуты очаги, но описан только один размерами 1 × 1 м при глубине 0,6 м, выложен крупными камнями; рядом лопатка коровы. В 1,2 м от очага фрагменты кухонного горшка, коса. Упоминается прорезанный мусорной ямой край «входа-коридора» (? – В. Ф. ) в заглубленное жилище. « Создается впечатление, что под мусорную яму был использован вход в более раннее жилище… Создается впечатление , что на одном и том же месте было несколько жилищ, которые прорезали друг друга. В результате получилась просадка пола жилищ и деформация контуров, что не позволяет определить не только форму жилищ, но и их заглубленность» (Там же. С. 21, 22). На раскопе попадаются кирпичи размерами 27 × 27 × 5 и 26 × 13 × 4 см.
Всего М. И. Краесветный выделяет восемь строительных горизонтов.
Примечательно в данной публикации первое описание керамики, но без рисунков : «Сосуды, изготовленные на гончарном круге, …коническое тулово и венчики различных форм. Тесто плотное с примесью шамота и органики, песка нет. Венчики часто имеют внутреннюю закраину. Эти сосуды можно отнести к славянским типам кухонной керамики . Фрагменты керамики с зигзагообразным орнаментом и плоским краем венчика, вероятно , относятся к типу “касо-жской”. К группе столовой керамики принадлежит фрагмент кружки с зеленой поливой … Все фрагменты относятся к керамике славянского и касожского типов и могут датироваться XI–XII вв.» (Там же. С. 23, 24). Отмечу, в других случаях указывается X в. О фортификации в данной заметке М. И. Краесветного не упоминается.
Результаты раскопок 2004 г. изложены буквально на одной странице. Перечисляются очаги, хозяйственные ямы с костями животных и рыб, обломки кирпичей, отходы косторезного ремесла, астрагалы и, что более важно, линзовидная подвеска из янтаря. «По слоистому заполнению ям, имеющим стерильные прослойки песка, можно говорить об их сезонном использовании, т. е. на данном месте население, вероятно, было не постоянным, а приходящим. Является ли такое положение характерным для всего городища или в нем было постоянное население, говорить рано. …В целом, обнаруженные материалы не выходят за рамки X–XII вв. и относятся к славянскому периоду». О следах фортификации в данной заметке опять ничего не сказано, но сообщается о выявлении какого-то нового слоя, «относящегося к более раннему периоду и другой культуре». Традиционно иллюстраций в заметке нет (Краесветный, 2006. С. 91, 92)2.
В заключение М. И. Краесветный высказывает намерение продолжить исследования памятника, но найти о них публикации не удалось. Информацию Краесветного о Золотовском местонахождении нельзя оценивать однозначно. Его описания отрывочны, часто путаные. Делать на их основе вывод о существовании на о. Куркин какой-либо крепости, хазарской или славянской, невозможно. Наконец, сам объект раскопок оказался чрезвычайно сложным, а исследовался ввиду нехватки финансирования поспешно. Во многих ситуациях автор раскопок не разобрался до конца. Но основную сложность для читателя представляет отделение в его текстах объективных сведений от предположений и толкований.
Включая Золотовское местонахождение в свою «Семикаракорскую агломерацию», Г. Е. Афанасьев, вероятно, не знал о состоянии его изученности. Во всяком случае, публикации М. И. Краесветного он не упоминает, как и И. Сулина и Е. П. Савельева, Б. В. Лунина, а ссылается только на тезисы П. А. Ларенка от 2000 г. ( Афанасьев , 2016. С. 59; Ларенок , 2000б), хотя раскопки Краесветного продолжались минимум до 2004 г. На примере Золотовского местонахождения я попытался показать, насколько необоснованными оказываются представления о памятнике без детального ознакомления с имеющейся о нем информацией и ее качеством.
Итак , из семи местонахождений семикаракорской «агломерации» одно, Крымское-1, вообще не поддается какому-либо определению без дополнительного обследования, два оказались поселениями, Золотые Горки и Крымское-2; на Золотовском существование фортификационных сооружений не подтверждено, нет даже плана местонахождения; о Великокняжеском нет достоверных сведений, оно могло быть как крепостью, так и поселением. Итого из «агломерации» выпадают пять объектов. Рыгинское, вероятно, было крепостью. В результате только Рыгинское и Семикаракорское, лежащие на расстоянии почти в 100 км друг друга, являются крепостями. Синхронны ли они – неизвестно. Такова ситуация на сегодня. Только новые полевые исследования могут внести в нее коррективы, что в кабинетных условиях даже самыми сверхсовременными методами сделать невозможно3.
Попутно, не углубляясь здесь в тему могильников и хронологии, обращу внимание на следующее в статье Г. Е. Афанасьева: «Установлено, что с Цимлянской агломерацией территориально сопряжен Верхнесальский кластер подкурганных погребений, а с Семикаракорской агломерацией – Нижнесальский кластер. Все это указывает на сложение в бассейне Нижнего Дона хорошо продуманной системы обороны, направленной на защиту этого поселенческого микрорайона [Ларенок, 2000] в пределах этнической территории хазар в IX в. [Афанасьев, 2012а]» ( Афанасьев , 2016. С. 59)4.
Обращаясь не впервые в своей статье к нижнедонским курганам, Г. Е. Афанасьев также не в первый раз умалчивает о нижнедонских грунтовых могильниках . Так, в его публикации 2015 г. есть карта ареалов катакомбных, кремационных и ямных могильников лесостепи, есть карта подкурганных погребений Волго-Донского междуречья, но нет карты ямных могильников Нижнего Дона ( Афанасьев , 2015. С. 239. Рис. 1, 2). Забыт даже расположенный в самом центре «семикаракорской агломерации» – ставший уже классическим – Крымский могильник, 140 (!) погребений, о существовании которого Афанасьев не может не знать и который одновременен нижнедонским курганам. Еще в 1975 г. его возникновение предварительно отнесено к середине VIII в., но время его функционирования окончательно не определено ( Савченко, Краесветный , 1976. С. 145; Савченко , 1986. С. 70–101).
В центре другой, «цимлянской агломерации», открыт Краснояровский грунтовый могильник с дирхемом 773–774 гг. ( Парусимов, Прокофьев , 2003. С. 50–62). Однако помимо них на Нижнем Дону и его притоках выявлено значительное число ямных погребений, за многими из которых стоят еще не исследованные могильники. Вопрос о них поставлен давно ( Швецов , 1983; Флёрова , 2002), а недоказанное преобладание подкурганных захоронений связано с тем, что обнаружение ямных могильников происходит редко и случайно. В то же время раскопки заметных на местности курганов идут непрерывно, главным образом коммерческими структурами. Назрела задача уточнить время появления на Нижнем Дону грунтовых могильников, их хронологические и географические связи с крепостями и поселениями. До этого что-либо считать установленным преждевременно.
Являлись ли семикаракорская и цимлянская5 «агломерации» «продуманной системой обороны, направленной на защиту этого поселенческого микрорайона» (Афанасьев, 2016. С. 590)? В плане изучения крепостей Нижнего Дона это вызывает сомнения по следующим причинам: не все перечисленные Г. Е. Афанасьевым местонахождения являются крепостями или их принадлежность к крепостям пока не установлена; на примере Правобережной Цимлянской крепости и Саркела мы видим, что крепости Нижнего Дона не относились к одному хронологическому срезу и тем самым не входили в одну «систему»; неизвестно время функционирования крепости Рыгинской и предполагаемой Великокняжеской, а также включенных в «цимлянскую агломерацию» местонахождений Камышино, Потайновский и Средний.
Наконец возникает вопрос, от кого нужно было защитить обширное пространство от дельты Дона до Цимлянского водохранилища и от г. Каменска до г. Пролетарска (бывшая станица Великокняжеская), который вряд ли можно назвать микрорегионом.
Завершая краткий обзор историографии за 1940–2016 гг., приходится констатировать, что какого-либо преобладающего или убедительного мнения о назначении крепостей не сложилось. Некоторые исследователи в своих обзорах и даже исторических реконструкциях просто не учитывают сам факт существования Семикаракорской крепости. Следует особо подчеркнуть то, что даже без раскопок, только сами ее размеры, крупнейшей среди кирпичных и каменных крепостей каганата, не позволяют игнорировать этот памятник. Самый яркий пример – К. Цукерман, сосредоточившийся на Правобережной Цимлянской крепости. Впрочем, и в этом усматривается определенный прогресс, поскольку в течение десятилетий все внимание историков было обращено на Саркел в связи с описаниями миссии Петроны Каматиры. Лишь плохая ориентация в археологии и хронологии Правобережной крепости привела К. Цукермана к неудаче.
Особняком среди писавших о нижнедонских крепостях стоит Г. Е. Афанасьев. Не делая абсолютного противопоставления, укажу на более реалистические и осторожные подходы к описанию городищ Г. Е. Свистуна ( Свистун , 2014).
Городища, равно и поселения Нижнего Дона, столь недостаточно изучены, а те, что подверглись раскопкам, то таким незначительным, что считать что-либо сколь-либо достаточно установленным в отношении их было бы самообманом. Приостановлены раскопки на о. Куркин, на поселениях Золотые Горки и Крымском, Правобережной Цимлянской и Семикаракорской крепостей. Их хронология требует уточнения.
Список литературы Из историографии середины XX - начала XXI в. Семикаракорской крепости и других хазарских памятников Нижнего Дона
- Артамонов М. И., 1940. Саркел и некоторые другие укрепления в Северо-Западной Хазарии//СА. VI. С. 130-165.
- Артамонов М. И., 1958. Саркел -Белая Вежа//Тр. ВДАЭ. Т. I/Отв. ред. М. И. Артамонов. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 7-84. (МИА; № 62.)
- Артамонов М. И., 1959. От редактора//Тр. ВДАЭ. Т. II/Отв. ред. М. И. Артамонов. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 5-8. (МИА; № 75.)
- Артамонов М. И., 1962. История хазар/Отв. ред. Л. Н. Гумилев. Л.: Изд-во ГЭ. 522 с.
- Афанасьев Г. Е., 2010. Кто же в действительности построил для хазар Левобережное Цимлянское городище?//XII Донские археологические чтения. Нижний Дон в древности: этногенез, природа, человек. Ростов-на-Дону: «Южархеология». С. 4-9.
- Афанасьев Г. Е., 2011. Кто же в действительности построил Левобережное Цимлянское городище?//РА. № 3. С. 235-247.
- Афанасьев Г. Е., 2012. ГИС-процедуры в определении этнической территории хазар//Археология и геоинформатика: Первая международная конференция/Отв. ред. Д. С. Коробов. М.: ИА РАН. С. 6-7.
- Афанасьев Г. Е., 2015. О самоидентификации Хазарского каганата в IX в. (по данным системы обороны//КСИА. Вып. 238. С. 98-114, 329, 330.
- Афанасьев Г. Е., 2016. О территории Хазарского каганата и хазарского «домена» в IX веке//Дивногорский сборник: труды музея-заповедника «Дивногорье». Вып. 6/Отв. ред. А. З. Винников. Воронеж: Научная книга. С. 41-72.
- Иванов А. А., 1994. Военно-политическая ситуация на Нижнем Дону в середине VIII -начале IX вв.//Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века: тез. докл. VII междунар. науч. конф. Ростов-на-Дону/Отв. ред. В. П. Копылов. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского пед. ун-та. С. 91-93.
- Иванов А. А., 2013. Исследования юго-восточного участка Крымского городища в 2006-2008 гг.//Хазарские древности/Отв. ред. В. В. Ключников. Аксай: Аксайский военно-исторический музей. С. 50-65.
- Ивик О., Ключников В., 2013. Хазары. М.: Ломоносовъ. 328 с.
- Ключников В. В., 2007. Особенности строительно-хозяйственных комплексов городища Золотые Горки//Международные отношения в бассейне Черного моря в скифо-античное и хазарское время: сб. ст. по материалам XII междунар. науч. конф./Отв. ред. В. П. Копылов. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского пед. ун-та. С. 126-127.
- Ключников В. В., 2013. Помещение 2 и яма 18 на памятнике хазарского времени Золотые Горки//Хазарские древности/Отв. ред. В. В. Ключников. Аксай: Аксайский военно-исторический музей. С. 163-175.
- Коробов Д. С., 2014. История изучения поселений салтово-маяцкой культуры: старые парадигмы и новые подходы//КСИА. Вып. 233. С. 121-132.
- Краесветный М. И., 2000. Работы Новочеркасского исторического комитета//ИАИАНД. Вып. 16/Отв. ред. А. А. Горбенко. Азов: Азовский музей. С. 94-99.
- Краесветный М. И., 2001. Работы Новочеркасского исторического комитета на Золотовском городище в 1999-2000 гг.//ИАИАНД. Вып. 17/Отв. ред. А. А. Горбенко. Азов: Азовский музей. С. 100-107.
- Краесветный М. И., 2002. Работы на Золотовском городище в 2001 году//IV Донские археологические чтения «Нижний Дон -этнические контакты»/Отв. ред. П. А. Ларенок. Ростов-на-Дону: Ростовский обл. музей. С. 20-24.
- Краесветный М. И., 2006. Работы Новочеркасского исторического комитета в 2004 году//ИАИАНД. Вып. 21/Отв. ред. А. А. Горбенко. Азов: Азовский музей. С. 89-92.
- Ларенок П. А., 2000а. Неизвестные крепости донской Хазарии//Взаимодействие и развитие древних культур южного пограничья Европы и Азии: материалы междунар. конф., посвящ. 100-летию И. В. Синицына/Отв. ред. Е. К. Максимов. Саратов: Саратовский гос. ун-т. С. 191-192.
- Ларенок П. А., 2000б. Хазария и Нижний Дон//Światowit. T. 2 (43). S. 81-92.
- Ларенок П. А., 2001. Хазария и Нижний Дон//Северный Кавказ и кочевой мир степей Евразии: V «Минаевские чтения» по археологии, этнографии и краеведению Северного Кавказа: тез. докл./Отв. ред. В. А. Шаповалов. Ставрополь: Ставропольский обл. краевед. музей. С. 90-98.
- Парусимов И. Н., Прокофьев Р. В., 2003. Новый салтовский могильник в окрестностях Цимлянска//VI Донские археологические чтения/Отв. ред. П. А. Ларенок. Ростов-на-Дону: Ростовский обл. музей. С. 50-62.
- Петрухин В. П., 2005. Русь и Хазария: к оценке исторических взаимосвязей//Хазары/Отв. ред. В. Москович. М.; Иерусалим: Мосты культуры: Гешарим. С. 69-100. (Евреи и славяне; т. 16.)
- Петрухин В. П., 2011. Русь и «вси языци». Аспекты исторических взаимосвязей: Историко-археологические очерки. М.: Языки славянских культур. 381 с.
- Плетнёва С. А., 1967. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. М.: Наука. 196 с. (МИА; № 142.)
- Плетнёва С. А., 1993. История одного хазарского поселения//РА. № 2. С. 48-69.
- Плетнёва С. А., 1994. Правобережное Цимлянское городище. Раскопки 1958-1959 гг.//МАИЭТ. Вып. IV/Отв. ред. А. И. Айбабин. Симферополь: Таврия. С. 271-398.
- Плетнёва С. А., 1996. Саркел и «шелковый путь». Воронеж: Изд-во ВГУ. 166 с.
- Савельев Е. П., 1911. Где на Дону был древний город Ахас//ДОВ. Новочеркасск. 24.05.1911 (№ 106). С. 2, 3.
- Савельев Е. П., 2002. Древняя история казачества. М.: Вече. 480 с.
- Савченко Е. И., 1986. Крымский могильник//Археологические открытия на новостройках. Вып. 1/Отв. ред. И. С. Каменецкий. М.: Наука. С. 70-101.
- Савченко Е. И., Краесветный М. И., 1976. Могильник у хутора Крымский//АО 1975 г. М.: ИА РАН. С. 145.
- Свистун Г. Е., 2014. Типология салтово-маяцких лесостепных городищ на современном этапе//Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 12: Хазарское время/Отв. ред. А. В. Евглевский. Донецк: ДонНУ. С. 51-102.
- Тимощенков И., 1905. Отчет об археологическом обследовании древнего городища при балке Рыгиной//Труды Двенадцатого Археологического съезда в Харькове, 1902 г. Т. II/Ред. П. С. Уварова. М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова. С. 569-576.
- Тортика А. А., 2006. Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы (вторая половина VII -первая четверть X в.). Харьков: ХГАК. 553 с.
- Флёров В. С., 1994, Правобережное Цимлянское городище в свете раскопок в 1987-1988, 1990 гг.//МАИЭТ. Вып. IV/Отв. ред. А. И. Айбабин. Симферополь: Таврия. С. 141-516.
- Флёров В. С., 1996а. ПРАвобережная Цимлянская крепость (проблемы планигРАфии и стРАтигРАфии)//РА. №1. С. 100-113.
- Флёров В. С., 1996б. Раннесредневековые юртообразные жилища Восточной Европы. М.: ИА РАН. 100 с.
- Флёров В. С., 2002. Крепости Хазарии в долине Нижнего Дона (этюд к теме фортификации)//Хазарский альманах. Т. 1/Отв. ред. В. К. Михеев. Харьков: Каравелла. С. 151-169.
- Флёрова В. Е., 2002. Проблема исследования ямных и курганных могильников хазарского времени на Нижнем Дону//Хазарский альманах. Т. 1. Харьков: Каравелла. С. 169-188.
- Цукерман К., 1998. Венгры в стране Леведии: новая держава на границах Византии и Хазарии около 836-889 г.//МАИЭТ. Вып. VI/Отв. ред. А. И. Айбабин. Симферополь: Таврия. С. 663-688.
- Швецов М. Л., 1983. О нижнедонской группе салтово-маяцких памятников//Проблемы хронологии археологических памятников степной зоны Северного Кавказа. Ростов-на-Дону: Ростовский-на-Дону ун-т. С. 109-113.