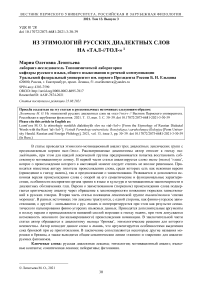Из этимологий русских диалектных слов на "тал-//тол-"
Автор: Леонтьева Мария Олеговна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.13, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится этимолого-мотивационный анализ трех диалектных лексических групп с предполагаемым корнем тал-//тол-. Рассматриваемые диалектизмы автор относит к гнезду талый/таять, при этом для каждой лексической группы предпринимается попытка восстановить собственную мотивационную логику. В первой части статьи анализируется слово талы (толы) ‘глаза', вопрос о происхождении которого в настоящий момент следует считать не вполне решенным. Приводятся известные автору гипотезы происхождения слова, среди которых есть как исконная версия (приведение к гнезду таять), так и предположение о заимствовании. Развивается и дополняется исконная версия происхождения слова с опорой на его семантические и функциональные характеристики, особенности восприятия органа зрения в языке и культуре и мотивационные закономерности в диалектных обозначениях глаз. Версия о заимствованном (тюркском) происхождении слова подвергается критическому анализу через обращение к закономерностям появления тюркских заимствований в русских говорах. Вторая часть статьи посвящена лексической группе талики/толики ‘спелая морошка'. В разных источниках эти лексемы трактуются, с одной стороны, как финно-угорское заимствование, с другой - связываются с рус. таять и интерпретируются при этом как результат семантического калькирования финно-угорских языковых данных. Приводятся дополнительные аргументы в пользу версии о принадлежности названий спелой морошки к гнезду таять, при этом допускается возможность исконного (не калькированного) происхождения номинации. В заключительной части статьи автор обращается к диалектизму талица ‘брюква', этимологические решения для которого неизвестны. Автор возводит данное слово к таять, что аргументируется особенностями выделения сока брюквой при ее приготовлении. В заключение сопоставляются некоторые другие названия морошки и брюквы, а также выводятся общие семантические линии «таяния» и «парения» для анализируемых фитонимов.
Русская диалектная лексика, этимология, мотивационный анализ, языковые контакты, соматическая лексика, пейоративы, фитонимия
Короткий адрес: https://sciup.org/147236760
IDR: 147236760 | УДК: 81'28 | DOI: 10.17072/2073-6681-2021-3-30-39
Текст научной статьи Из этимологий русских диалектных слов на "тал-//тол-"
В русских говорах зафиксировано несколько темных слов с предполагаемым корнем тал-// тол- , которые заслуживают обстоятельного семантико-мотивационного изучения. Данная статья не претендует на исчерпывающий анализ всех русских диалектных слов на тал- // тол- , в круг нашего внимания вошли лишь некоторые из них – та́лы́ / то́лы́ ‘глаза’, талики́ / толики́ ‘спелая морошка’ и та́лица , та́лика ‘брюква’. Анализируемые диалектизмы, во-первых, представляют определенные сложности при этимологизации, во-вторых, по нашим наблюдениям, интересны в семантико-мотивационном отношении. Предположительно, они связаны с таять , талый , но мотивационная история у каждого из них, разумеется, своя.
Начнем с пейоративного обозначения глаз вят., пенз., перм., ср.-урал. талы́ [Опыт: 226; СРНГ 43: 248; СПГ 2: 423; ДЭИС], представленного также в варианте с другой огласовкой – вят., перм., горьк., южн., яросл., костр. толы́ [СРНГ 44: 220; ДЭИС; ОСВГ 11: 60–61]. Эти два варианта встречаются также с ударением в корне: башк., морд., пенз., ср.-урал. та́лы [СРГБ: 336; СРГМ 2: 1297; СРНГ 43: 248; ДЭИС], башк., яросл.. костр. то́лы [СРГБ: 336; ЯОС 9: 107; Ганцовская 2015: 382]. Приведем некоторые контексты, в которых ярко проявляется экспрессивность рассматриваемой номинации: Талы́ -те вытарашшил, стамошарой [СПГ 2: 423], Толы́-то у нее большенные! [ОСВГ 11: 60], То́лы твои бессовестные! [Ганцовская 2015: 382]. Данный диалектизм входит в один ряд со множеством синонимичных «глазных» экспрессивов, таких как арх., влг. бе́лыши , свердл. лунди́щи , влг. пу́чеги , рачи́лы , влг., новг, вят. ту́ски , шир. распр. зенки , шары , шарёшки , шарёнки [СРНГ 1: 259; 2: 234; 17: 194; 45: 288; ЛКТЭ; КСГРС] и др. Мотивационные особенности единиц из этой лексической группы были проанализированы, в частности, в [Власова 1997: 10–11, Ясинская 2018: 73–74; Леонтьева 2019: 411–416].
Как справедливо отмечает М. В. Ясинская, внутреннюю форму таких экспрессивов часто трудно объяснить однозначно [Ясинская 2018: 73]. Рус. диал. талы/толы является одним из самых темных слов из этого ряда. Прежде чем переходить к проблеме происхождения данной номинации, следует выявить ее семантические и функциональные характеристики. В целом та-лы/толы содержит устойчивую негативную коннотацию. Чаще всего данным словом обозначаются вытаращенные глаза, в этом случае слово употребляется в таких сочетаниях, как талы/то-лы вывора́чивать/пя́лить/шепе́рить (и т. п.): Чё ты на неё свои толы́ пялишь? [ОСВГ 11: 61]. Вытаращенные глаза, глазеющий человек, сам акт «глядения» стабильно вызывают раздражение и осуждение2. В языке это проявляется не только в богато представленной лексике, обозначающей сам орган зрения, но и в экспрессивных глаголах, обозначающих перцептивную функцию глаз, а также в относящихся к человеку бранных определениях, в которых акцент делается на больших, вытаращенных глазах. Ср. вы́ рачить, вы́ стручить ‘вытаращить (глаза)’ [СВГ 1: 97, 101], без указ. м. буркала́стый, влг. рачегла́зый ‘имеющий большие, широко открытые глаза’ [Даль 1: 145; СВГ 9: 45]. Вытаращенные глаза часто воспринимаются как проявление праздного поведения, отсюда, например, новг. глазево́н ‘тот, кто из праздного любопытства засматривается на что-либо, праздно шатается где-либо; зевака’ [СРНГ 6: 187], влг. гла́зья выпу́чи-вать ‘праздно проводить время, бездельничать’ [Золотые россыпи: 49], вятск. толы́ вывора́-чивать ‘бездельничать, бесцельно проводить время в ожидании’ [ОСВГ 7: 61]. Помимо вытаращенных глаз талы/толы может обозначать глаза в состоянии алкогольного опьянения: Налил толы́-то, дак такой уж баской идёт, такой баской: еле пакли <па́кля ‘нога’> переставляет [ОСВГ 7: 192]. Слово также достаточно регулярно обозначает бесстыжие глаза (Не стыдно тебе толо́в-то?), плохо видящие или больные глаза (Раскрой толы́-то; Ему надо лечить то-лы́), бегающие глаза (Чё ты своим тола́м-то завертел) и употребляется в недобрых пожеланиях и угрозах вроде лопнули бы толы́ (у кого-л.), вытачу толы́ и пр. [ОСВГ 11: 60–61] Показательны также такие дериваты, как большето́лый (неодобр.) ‘большеглазый’, ‘о завистливом и всё высматривающем человеке’ [ОСВГ 1: 89–90] и вятск., алт. белото́лый ‘со светлыми глазами; белоглазый’ [ОСВГ 1: 67; СРГА 1: 55]: эти слова совмещают в своей семантике не только физические свойства глаз человека, но и его психическую характеристику (в негативной оценке). Слову белото́лый уделено значительное внимание в [Березович 2016: 65–67], где рассматриваются с семантико-мотивационной точки зрения оба компонента лексемы. Но к мотивационной стороне вопроса мы обратимся позднее. На данном этапе важно указать на то, что белото́лый встраивается в лексику, обозначающую светлые глаза (рус. диал. белогла́зый, белозо́рый, бело-ша́рый ‘светлоглазый’ и др.). Человек с такими глазами систематически вызывает неприятие по народным представлениям, отраженным в языке: «носителями» светлых, «белых» глаз являются инородцы (например, чудь белоглазая), слепые люди, мертвецы, люди в состоянии бешенства, люди с вытаращенными, страшными глазами и т. п. [Березович 2016: 65, 68–69]. В соответствии с вышесказанным, белото́лый, обозначая сугубо физический признак, потенциально включает в свою семантику отрицательную характеристику психических свойств человека. Как видно из общего обзора, в целом устойчивая пейоративная окраска слова талы/толы часто может быть направлена не только на «телесные», физические свойства человека, но и на его негативно оцениваемые психические качества. См. о выраженной в языковых представлениях способности глаз содержать и отображать информацию о внутреннем мире их носителя также в [Ясинская 2015: 54–55].
Перейдем к проблеме происхождения та-лы / толы ‘глаза’. Нам известны две основных гипотезы. М. Фасмер относит слово к талый , таять , не аргументируя, однако, при этом представленную мотивационную связь [Фасмер 4: 16]. Е. Л. Березович, отталкиваясь от упомянутого выше белото́лый ‘светлоглазый’, развивает гипотезу М. Фасмера и раскрывает смысловую сторону предлагаемой связи талы с таять , талый : приводятся данные, отражающие востребованность признака холода, мороза при пейоративном обозначении человека через указание на его глаза: ср. ледяной взгляд , ледяные глаза , иркут. моро́женые глаза́ , перм. обморо́женные гла-за́ , глаза́ заморо́жены ‘о бессовестном, наглом человеке’, иркут. заморозить глаза ‘стать бессовестным’. По этим данным можно допустить метафорическую базу для талы / толы ‘глаза’, основанную на актуализации признака холода, характерного для талых мест3. В пользу предполагаемой метафоры служит слово, свидетельствующее об обратном переносе (‘глаза’ > ‘талая вода’) – арх. глазови́на ‘незамерзающее место на озере’ [Березович 2016: 65–67]. В настоящей статье мы попытаемся привести дополнительные аргументы, поддерживающие это этимолого-мотивационное решение.
Обособленной является версия о тюркском происхождении рассматриваемой номинации, представленная В. И. Абаевым в «Историкоэтимологическом словаре осетинского языка». Этимология рус. диал. талы/толы ‘глаза’ помещена в словарной статье на осетин. tæly, tæli ‘обруч’, ‘обод колеса’, которое определяется как возможное заимствование из тюркских языков, ср. алт., шор. tälik ‘кольцо’, саг. tegilik ‘колесо’ и др. По предположению В. И. Абаева, к этим тюркским данным (отличительная черта которых – семантика круглого) следует привести и рус. диал. талы ‘глаза’, которое «следует, быть может, понимать как ‘круги’ (ср. шары в этом же значении)». При этом версия Фасмера о связи талы́ ‘глаза’ с талый представляется В. И. Абаеву сомнительной [Абаев 3: 259].
Гипотезу В. И. Абаева можно уверенно подтвердить мотивационными параллелями (помимо приводимого исследователем слова шары ). Действительно, во внутреннюю форму обозначающих глаза экспрессивов достаточно часто закладывается идея округлой формы, например, в южн., зап., смол., кубан., курск. ба́ньки – букв. ‘шарик, пузырек’, связанное с южн., зап. ба́ня ‘шар, мыльный пузырь’ [Аникин РЭС 2: 183, 184], без указ. м. плошки [Даль 4: 399], ср. также глаза как блюдца , глаза по пять рублей .
Однако вернемся к версии М. Фасмера. Ранее мы уже предпринимали попытку ее раскрытия в [Леонтьева 2019: 416–421], кратко приведем основные наши положения. Помимо признака мороза и холода как свойства талых мест, в мотивационном отношении важно отметить, что слова, входящие в гнездо талый и таять, обозначают водные источники: арх., олон. тало́ ‘оттаявшее место’, свердл., ср.-урал. тало́ ‘незамерзающее место на болоте’ [СРНГ 43: 247], перм. тале́ц ‘растаявший участок на реке весной’ [СПГ 2: 433], ср.-урал. та́лка ‘проталина’ [СРГСУ 6: 87], арх. та́ль ‘топкое место’ [КСГРС] и др. Дело в том, что по языковым данным водные источники регулярно сравниваются с органом зрения, это основано на свойстве отражения, характерном блеске и особой «структуре» (глаза выделяются из «кожного» пространства так же, как водные источники из окружающего земельного ландшафта). Семантический переход ‘глаза’ – ‘водный источник’ обнаруживается в разных языках (в том числе в не относящихся к индоевропейской семье) и является языковой фреквенталией, которая обнаруживается не только в славянских, но и в балтийских, иранских, тюркских и других языках [Журавлев 2005: 332–333; Толстой 1970: 52, 53]: ср. польск. диал. oko ‘незаросшая, голая часть на горной поверхности’, белорус. диал. чо́ртава во́ка ‘небольшая, но глубокая естественная яма, заполненная водой’, литов. akìs ‘глаз’, ‘источник’, тюрк. göz ‘глаз’ ‘родник, ключ’ и т. п. [Журавлев 2005: 333] Есть основания считать, что этот переход может работать в оба направления, ведь как водные источники могут ассоциироваться с глазами, так и глаза уподобляются жидкости [Ясинская 2015: 49–50]: ср., с одной стороны, названия водных источников арх. глази́на ‘лужа на болоте’, олон. глазни́к ‘окно на поверхности зарастающего озера’, ‘отвер- стие во льду на реке, озере’ [СРНГ 6: 187, 188], и с другой стороны – явление проецирования на орган зрения названий водных источников: в языке показательны такие данные, как ново-сиб., перм., новг. озёрко́ ‘зрачок’, киров. озёрко́ ‘роговица’4 [СРНГ 23: 91], влг. глаза́ на боло́те ‘о человеке, который часто плачет’ [Золотые россыпи: 49], в пользу такого перехода свидетельствуют сравнительные обороты в художественной литературе вроде глаза как озёра, глаза – колодцы и т. п., см. об этом подробнее в [Леонтьева 2019: 419].
Таким образом, предположение о том, что мотивирующим для обозначения глаз талы / толы мог послужить диалектный географический термин с корнем тал -, следует считать вполне допустимым. Для рассматриваемой номинации недостаточно было бы ограничиться нейтральным в своей основе сравнением глаз с водными источниками. Устойчивая пейоративная окраска та-лы / толы , как было показано выше, может быть основана на актуализации признака мороза и холода у талых мест. Кроме того, принимая во внимание сиб., том., арх., олон. та́ять ‘растапливать, топить’ [СРНГ 43: 319], допустимо в качестве дополнения предполагать актуализацию «растапливающего» воздействия пристальных глаз, ср. сочетания типа буравящий взгляд , прожигающие глаза и т. п.
Гипотеза В. И. Абаева о тюркском происхождении талы / толы (букв. ‘круги’) при обоснованности возможной актуализации «круглой» семантики вызывает всё же некоторые сомнения. Необходимо обратиться к закономерностям семантического освоения тюркских заимствований в русских говорах. Е. С. Николаева, анализируя тюркизмы в говорах Русского Севера, делает вывод, что наиболее активно пополняются заимствованиями такие лексические группы, как «быт», «трудовая деятельность человека» и «характеристика человека со стороны тех или иных качеств, свойств или действий» [Николаева 1997: 61, 164]. Соматическая лексика в русских говорах представлена преимущественно исконными словами и не слишком активно пополняется заимствованиями. Среди известных нам диалектных лексем, называющих глаза, тюркизмы не обнаруживаются, из заимствованной лексики можем привести единичные примеры, ср. влг. баклы́ ‘глаза’ < влг. ба́кла ‘нарост на дереве’ – заимствование из вепсского [Аникин РЭС 2: 101].
Тем не менее тюркизмы в соматической лексике встречаются, преимущественно среди экс-прессивов: пенз., куйбыш., ульян., моск., свердл., ср. урал, краснояр. калга́н ‘голова’ [СРНГ 12:
342] < рус. диал. калга́н ‘посудина’ – по происхождению тюркизм [Аникин ЭСС: 239]; тюркское по происхождению арх., влг. карга́ ‘о плохо действующей руке или ноге’ < на базе значения влг., забайк., краснодар. карга́ ‘искривленное дерево’ (или влг. ‘изогнутая железная палка’) – по данным, представленным в [Николаева 1997: 106–107; Фасмер 2: 196], влг. кордю́ к , курдю́ к ‘толстый живот’, связанное с тюркизмом курдюк ʻу овец: жировое отложение у корня хвоста’ [ТСлРЯ: 391]. В приведенных данных прослеживается важная закономерность: такие тюркские по происхождению соматизмы являются, как правило, конкретно-образными метафорами. При этом производящее значение присутствует в русских говорах, соответственно, внутренняя форма таких соматизмов, по-видимому, не является стёртой. Между тем для талы ‘глаза’ в русских говорах не обнаруживается производящего «круглого» (несоматического) значения (по данным диалектных словарей). В этой ситуации идея округлости может передаваться только отвлеченно – через абстрактное понятие ‘круг’, что не вписывается в общие закономерности семантического освоения заимствований (тюркских, финно-угорских) в диалектной соматической лексике и потому мыслится недостаточно убедительным; допустить метафорический перенос на базе значения ‘кольцо’ из тюркских языков также представляется маловероятным.
***
Следующая номинация, требующая мотивационного комментария, представляет собой диалектное обозначение спелой или переспелой морошки, зафиксированное в вариантах тали́к , талика , талушка , талая морошка (ед.), тальё (собир.), талики́ , толики́, тальцы́ (множ.) [СРГК 6: 437, 438; КСГРС]. К данным наименованиям примыкает влг. (кир.) тале́ть ‘становиться сочным, мягким (о ягодах)’ [СРГК 6: 436]. В лингвогеографическом отношении эти слова характеризуются узким ареалом распространения на северо-западе Вологодской области (выт., вашк., белоз., кир., вож.) и на юго-западе Архангельской области (кон., карг.).
С. А. Мызников для упомянутых лексем предполагает заимствованное происхождение. Поскольку речь идет о перезревшей морошке, которую не сразу собрали, данные диалектизмы следует сопоставлять с вепс. d’äl’ik ‘гнилой (о картофеле)’, в основе которого лежит глагол g’ätta, jätta, dätta ‘оставить’ [РДЭС: 778]. В то же время номинация сопоставима с рус. таять, в одном из контекстов отражено, что диалекто- носители видят именно такую связь: Когда морошка поспеет, так становится мягкой, так во рту и тает, талушки [СРГК 6: 437]. С. А. Мызников, однако, придерживаясь версии о заимствовании, называет сомнительной мотивацию, по которой ягода тает (во рту) [РДЭС: 778].
Допустимо видеть иную семантическую логику в возможной мотивационной связи с таять : особенностью спелой (и переспелой) морошки является избыток сока, ср. определение, данное в СРГК [6: 436], – талики́ ‘мягкая сочная, спелая ягода’. Другими словами, ягода, становясь мягкой и сочащейся, может восприниматься как «тающая». Показателен контекст: Та́лая стала морошка, текёт с её сок (влг.) [КСГРС]. Следует отметить, что в иллюстративных контекстах фигурирует морошка, которая пригодна для сбора и употребления в пищу, что ставит под сомнение актуализацию признака «гнилья» у рассматриваемых названий морошки: Летося, как съедут, так полные корзины талья́ приносят ; Морошка на талики́ сделается, так хорошо варенье варить [СРГК 6: 437]. О связи с таять в формальном отношении свидетельствует наличие варианта талая морошка наряду с талики , толики , а также формальный параллелизм тали́к ‘спелая ягода морошки’ и влг., карел. та́лик ‘теплая погода; оттепель’, вятск. тали́к ‘незамерзающий родник’ [там же; СРНГ 43: ОСВГ 11: 12] (мотивационная связь двух последних слов с таять не вызывает сомнений).
Именно с таять связывает рассматриваемые названия спелой морошки О. В. Мищенко [Мищенко 2012], уточняя при этом, что семантический переход является не исконным, а скалькированным с финно-угорских дериватов от ‘таять’. На первый взгляд, в названии талая морошка (и его вариантах) отражается реализация представлений об истечении жидкости, которое сопровождает потерю ягодами своей жесткой структуры. Однако, анализируя семантическую организацию гнезда русского таять , исследователь приходит к выводу, что в названиях созревших ягод переход ‘таять’ – ‘становиться мягким’ маловероятен для исконной семантической линии. В русском языковом материале проявляется, что «таяние» всегда происходит под влиянием внешних факторов – прежде всего, под влиянием высокой температуры, ср. оттаять (о почве, о замороженных продуктах), диал. талый ‘приготовленный топлением, топленый (например, о масле)’ и т. п. Появление значения ‘спелая морошка’ не встраивается в эти закономерности, так как не актуализирован внешний фактор повышенной температуры [там же: 199].
В отличие от русских языковых данных, финно-угорский материал показывает, что в семантической организации гнезда ‘таять’ устойчивой является не столько линия сочащейся жидкости, сколько линия мягкости, при этом важно, что мягкость является «имманентным свойством объекта» и может возникать (в отличие от русских дериватов) не только от физического процесса таяния; ср. фин., карел., вепс., вод., эст., лив. sula ( suлa ) ‘талый’ и фин. suleva ‘гибкий, эластичный, мягкий’, карел.-ливв. šulava , sulava ‘мягкий, гибкий (о коже, шкуре, мехе)’. Значение ‘спелая морошка’ вполне встраивается в эту иноязычную семантическую линию. Мотивация глаголом таять , таким образом, для русских названий спелой морошки не связана с самостоятельной деривацией и является семантической калькой с финно-угорских языковых единиц [там же: 198, 200].
В пользу версии о калькировании свидетельствует узкий ареал распространения номинации, являющийся контактной зоной с финно-угорскими народами. Морошка – реалия, которая активно репрезентируется в финно-угорских языках, см. о них в [Бродский 2014: 130–139]. При этом в прибалтийско-финских языках выделяются специфические для этой ягоды идеограммы, такие как ‘незрелая морошка’ и интересующая нас ‘перезрелая морошка’ [там же: 130].
В целом как в финно-угорских, так и в русских названиях морошки проявляется, что номинативные процессы для этой ягоды очень часто связаны со сложным межязыковым взаимодействием. Само слово морошка считается финноугорским заимствованием [Бродский 2014: 137; Фасмер 2: 658], в то время как вод. glaža , glažža ‘морошка’ – заимствование из русского ( глажи ‘морошка’, ‘малина’, ‘костяника’ < рус. гладкий ) [Бродский 2014: 134; Фасмер 1: 409].
Любопытно рассмотреть контаминационные процессы в названиях морошки в плане взаимодействия финно-угорского и русского материала. Небезынтересно сравнить рассматриваемое та-лики́ с арх., олон. рохка́ч, рофкач, рокка́ч со значением ‘неспелая морошка’, которые связывают с фин. rohka, кар. ruokha ‘незрелая ягода’, эст. rõhk, rõhke ‘сочный, мягкий, полузрелый (о зерне)’. Следует заметить, что облик родственных диалектизмов олон. ро́хлый ‘неспелый (о ягодах)’ и арх. рохле́ц ‘незрелая морошка’ свидетельствуют о контаминационных процессах в русском и прибалтийско-финском материале [РДЭС: 686–687]. Вполне можно предполагать влияние рус. рыхлый, влг. ро́хлый ‘рыхлый’ [Даль 4: 107]: у незрелой ягоды может актуализироваться при- знак рыхлости, то есть мягкости, «несформиро-ванности», в этом плане показательно совмещение значений ‘мягкий’ и ‘полузрелый’ у эст. rõhk, rõhke. Однако, как мы видели ранее, мягкость является признаком именно (напротив) спелой морошки, что так или иначе отражается в ее названии талики/толики. Полноценной мотивационной параллелью может послужить арх. ры́ хлица ‘вполне спелая морошка’ [Подвысоцкий 1875: 150]. По приведенным данным можно предполагать, что признак рыхлости (заключенный в дериватах от рыхлый и лексемах с влиянием этого слова) потенциально может в семантическом отношении «вести» как к зрелости, так и к незрелости ягод. В целом взаимодействие приведенных языковых единиц требует более глубокого исследования.
В заключение наших размышлений о номинации талики / толики укажем на сходные в мотивационном отношении параллели, обозначающие зрелую морошку. О. В. Мищенко приводит в своем исследовании также влг. топёшка , расто-пёшка , ростопёшка ‘зрелая морошка’ и растопиться ‘поспеть, раскрыться (о морошке)’ – эти данные трактуются как реализация той же самой кальки, что с талики / толики , только на базе другого (синонимичного с таять ) корня [Мищенко 2012: 200]. Мы добавим к этому более далекое, но всё же сходное в мотивационном отношении новг. пару́ха ‘переспелая морошка’ [НОС: 791], которое следует отнести к гнезду парить . Вероятнее всего, в этой номинации также передается признак мягкости и «текучести»: созревшая, сочащаяся ягода воспринимается как «распаренная». Весьма любопытно, что идея спелости ягоды в данном случае передается через основу, семантически связанную с повышением температуры как внешним фактором, вопреки замечанию О. В. Мищенко о том, что такая семантическая логика для обозначения зрелой морошки маловероятна. Следовательно, можно допускать, что такие семантические потенции могли быть реализованы у таять для талики / толики 5.
По-видимому, вопрос о калькированном или исконном происхождении талики/толики ‘спелая морошка’ на данном этапе сложно решить однозначно. Требуется более полный анализ русских и финно-угорских названий морошки и их взаимодействия. Мы видели, что для передачи идеи мягкости зрелой морошки русский материал помимо талики/толики предлагает множество вариантов: по крайней мере, ры́ хлица, топёш-ка/растопёшка, пару́ха Пока позволим себе отметить, что исконная версия (т. е. предположение о «самостоятельной» деривации таять > талики/толики), как нам кажется, более предпочтительна.
***
Последняя номинация, к которой мы обратимся – влг. (влгд., хар.) та́лица влад., ряз. та́лька ‘брюква’, ряз. та́лика ‘горькая брюква’ [СРНГ 43: 243, 246, 251; КСГРС]. Этимологические решения для этих лексем нам неизвестны. Вместе с нашими предположениями о происхождении этих названий брюквы мы представим замеченные нами семантические пересечения с мотивационной логикой анализируемого выше талики / толики ‘спелая морошка’.
Брюква является растением, из которого готовятся различные кушанья. Брюкву, как правило, парят, вялят и запекают. Способы приготовления этого корнеплода отражены в таких диалектизмах, как ленингр., новг., олон., арх. па́ра , арх., влг. па́ренца , арх. па́рни́ца ‘пареная брюква или репа’, влг. вялени́ца ‘вяленая или сушеная репа или брюква’, влг., вятск. печени́ца ‘печеная репа, брюква’ [СРНГ 6: 78; 25: 214; 26: 347]. При термической обработке брюква становится мягкой и пускает сок. Это свойство, как мы предполагаем, обусловило появление рассматриваемых тали-ца / талика / талька , соответственно, в качестве этимона для них следует предполагать глагол таять . В пользу этой гипотезы свидетельствует то, что по способу приготовления может называться не только кушанье из брюквы, но и сам корнеплод: влг. парену́ха ‘брюква’ [СРНГ 25: 223], костр., влад. перепе́чка ‘крупная брюква’: Пудов пять перепечек насбирал [СРНГ 26: 185], ср. шир. распр. перепе́ча ‘кулич, каравай’, сев.-двин., арх., вятск. ‘ватрушка с картошкой’ [там же].
Исконный характер такой мотивации не вызывает сомнений, так как «таяние» (выделение сока) обусловлено внешними факторами, т. е. повышением температуры.
***
Рассмотренные нами диалектные фитонимы талики/толики ‘спелая морошка’ и талика/та-лица/талька ‘брюква’, таким образом, по нашему предположению, восходят к общей основе – таять. В случае с морошкой реализуется модель ‘таять’ – ‘становиться мягким, зреть, переполняться соком’, в случае с брюквой мотивационная логика несколько иная – ‘таять’ – ‘становиться мягким, выделять сок под влиянием повышенной температуры’. Судя по лингвогеографическим данным и семантико-мотивационным характеристикам, данные номинации являются независимыми друг от друга образованиями. Однако очевидно, что они пересекаются друг с другом в мотивационном отношении. Кроме того, обнаруживаются любопытные совпадения в некоторых других названиях брюквы и морошки, которые встраиваются в мотивационную логику анализируемых в данной статье дериватов от таять.
Во-первых, небезынтересно сравнить приводимое выше арх. ры́ хлица ‘спелая морошка’ с нижегор. ры́ хва ‘брюква’ [СРНГ 35: 322]: последнее слово, вероятно, как и бру́тва , гру́хва , ру́хва (и под.) ‘брюква’ [СРНГ 3: 211; 7: 171; 35: 275], является искаженным словом брюква ; однако вполне вероятно, что облик этого слова появился под влиянием слова рыхлый . Как мы уже отмечали выше, рыхлый передает семантику мягкости, которая востребована как для спелой морошки, так и для термически обрабатываемой брюквы. Во-вторых, следует сопоставить упомянутое выше новг. пару́ха ‘спелая морошка’ и влг. парену́ха ‘брюква’: оба слова объединяются заложенной во внутреннюю форму идеей повышения температуры, связанной с признаками мягкости и выделения сока.
Наконец, следует отметить определенную общность реалий: и морошка, и брюква термически обрабатываются (хотя, безусловно, для брюквы это более характерно), что в определенном отношении «поддерживает» идею «таяния» и «парения» у обеих номинаций.
Таким образом, рассмотренные названия морошки и брюквы с корнем тал -// тол - и их мотивационные параллели показывают, что происхождения названий морошки и брюквы могут находиться на пересечении линий «парения» и «таяния», передающих идею мягкости (обусловленной или созреванием, или особенностями приготовления). Эти мотивационные закономерности, которые мы на данном этапе можем только наметить, требуют более обстоятельного изучения с широким подключением синонимичных диалектных фитонимов.
Примечания
-
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 20-18-00223 «Этимологизация и семантическая реконструкция русской диалектной лексики».
Автор выражает глубокую признательность Юрию Альбертовичу Дзиццойты за ценные советы и указание на важный источник для настоящей статьи.
-
2 Негативное отношение к вытаращенным глазам проявляется не только в языке, но и в фольклорном материале. См. об этом в [Завалишина 2003: 86, 87].
-
3 Немаловажен также формальный критерий: отмечается, что корневое чередование та-лы / толы не является препятствием для приведения номинации к гнезду талый , таять , где встречается слово с таким же чередованием, ср. арх. тол ‘талая земля, почва’ [Березович 2016: 66]. Следует предполагать, что вариант толы вторичен и обусловлен деэтимологизацией.
-
4 Более вероятно, что данные слова, как и само слово зрачок , являются прямыми продолжениями прасл. *zьreti (рус. зреть ), то есть не являются образными номинациями, более ярко отсутствие метафорической базы проявляется в формально схожих смол. озе́рки ‘искры, темные пятна, рябь в глазах’, калуж. озерно́к ‘зрачок’ [СРНГ 23: 91, 92]. Однако следует допускать возможность по крайней мере вторичного притяжения, ср. влад. озё́рка ‘маленькое озеро’, олон., ленингр., тобол., горно-алт., влг., пск., новг., калин., влад., арх., ряз. озё́рко , озерко́ ‘озеро; небольшое озеро’ [там же: 91].
-
5 В качестве дополнения отметим, что в логику появления рассматриваемой номинации морошки встраивается возможность актуализации фактора внешнего повышения температуры, которое проявляется при термической обработке, необходимой для спелой скоропортящейся ягоды: ср. контекст Морошка на талики́ сделается, так хорошо варенье варить (влг.) [КСГРС].
Список источников (с сокращениями)
Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка: Указатель. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1995. Т. 1–5.
Аникин РЭС – Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. М.: Рукописные памятники, 2007–. Вып. 1–.
Аникин ЭСС – Аникин А. Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. 2-е изд., испр. и доп. М.; Новосибирск: Наука, 2000. 768 с.
АОС – Архангельский областной словарь / под ред. О. Д. Гецовой. М.: Изд-во МГУ, 1980–. Вып. 1–.
Ганцовская 2015 – Словарь говоров Костромского Заволжья: междуречье Костромы и Унжи / Н. С. Ганцовская; Рос. акад. наук, Ин-т лингвистических исслед., Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова, РОО «Костромское землячество в Москве». Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова; М.: Кн. клуб Книговек, 2015. XXXI, 511 с.
Даль – Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. СПб.; М.: Изд-во М. О. Вольфа, 1880–1882(1989).
Дилакторский – Словарь областного вологодского наречия. По рукописи П. А. Дилакторского 1902 г. / изд. подгот. А. И. Левичкин, С. А. Мызников. СПб.: Наука, 2006. 677 с.
ДЭИС – Традиционная культура Урала: Диалектный этноидеографический словарь русских говоров Среднего Урала [Электронный ресурс] / авт.-сост. О. В. Востриков, В. В. Липина; Свердл. обл. дом фольклора; кафедра русского языка и общ. языкознания УрГУ. Екатеринбург, 2009. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Золотые россыпи: словарь устойчивых оборотов речи в вологодских народных говорах / отв. ред. Л. Ю. Зорина; М-во образ. и науки РФ; Вологод. гос. пед. ун-т. Вологда: ВГПУ, 2014. 304 с.
КСГРС – Картотека Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ, Екатеринбург).
ЛКТЭ – Лексическая картотека Топонимической экспедиции Уральского федерального университета (кафедра русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ, Екатеринбург).
НОС – Новгородский областной словарь / изд. подгот. А. Н. Левичкин, С. А. Мызников. СПб.: Наука, 2010. 1435 с.
Опыт – Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отделением Императорской академии наук / ред. А. Х. Востоков. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1852. 275 с.
ОСВГ – Областной словарь вятских говоров / под ред. В. Г. Долгушева, З. В. Сметаниной. 2-е изд., испр. и доп. Киров: ООО «Коннектика», 2012 - . Вып. 1 - .
Подвысоцкий А. И. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1885. 198 с.
СВГ – Словарь вологодских говоров: в 12 т. / под ред. Т. Г. Паникаровской. Вологда: Изд-во ВГПИ/ВГПУ, 1983–2007.
СПГ – Словарь пермских говоров: в 2 вып. / под ред. А. Н. Борисовой, К. Н. Прокошевой. Пермь: Кн. мир, 2000.
СРГА – Словарь русских говоров Алтая / под ред. И. А. Воробьевой, А. И. Ивановой. Барнаул, 1993–1998. Т. 1–4.
СРГК – Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / гл. ред. А. С. Герд. СПб.: Изда-во С.-Петерб. ун-та, 1994–2005. Вып. 1–6.
СРГСУ – Словарь русских говоров Среднего Урала: в 7 т. / под ред. А. К. Матвеева. Свердловск, 1964–1987.
СРНГ – Словарь русских народных говоров / под ред. Ф. П. Филина, Ф. П. Сороколетова, С. А. Мызникова. М.; Л.; СПб.: Наука, 1965. Вып. 1–.
ТСлРЯ – Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Азбуковник. 1175 с.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. М.: Прогресс, 1986–1987.
SPIN-code: 4303-7590
ResearcherID: AAW-7674-2021
Submitted 25.08.2021
The article presents etymological and motivational analysis of three dialectal lexical groups with the root
tal
-//
tol
-. The author considers that the dialecticisms under study refer to the word family
талый
Список литературы Из этимологий русских диалектных слов на "тал-//тол-"
- Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка: Указатель. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1995. Т. 1-5.
- Аникин РЭС - Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. М.: Рукописные памятники, 2007-. Вып. 1-.
- Аникин ЭСС - Аникин А. Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. 2-е изд., испр. и доп. М.; Новосибирск: Наука, 2000. 768 с.
- АОС - Архангельский областной словарь / под ред. О. Д. Гецовой. М.: Изд-во МГУ, 1980-. Вып. 1-.
- Ганцовская 2015 - Словарь говоров Костромского Заволжья: междуречье Костромы и Унжи / Н. С. Ганцовская; Рос. акад. наук, Ин-т лингвистических исслед., Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова, РОО «Костромское землячество в Москве». Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова; М.: Кн. клуб Книговек, 2015. XXXI, 511 с.
- Даль - Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. СПб.; М.: Изд-во М. О. Вольфа, 1880-1882(1989).
- Дилакторский - Словарь областного вологодского наречия. По рукописи П. А. Дилакторского 1902 г. / изд. подгот. А. И. Левичкин, С. А. Мызников. СПб.: Наука, 2006. 677 с.
- ДЭИС - Традиционная культура Урала: Диалектный этноидеографический словарь русских говоров Среднего Урала [Электронный ресурс] / авт.-сост. О. В. Востриков, В. В. Липина; Свердл. обл. дом фольклора; кафедра русского языка и общ. языкознания УрГУ. Екатеринбург, 2009. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
- Золотые россыпи: словарь устойчивых оборотов речи в вологодских народных говорах / отв. ред. Л. Ю. Зорина; М-во образ. и науки РФ; Вологод. гос. пед. ун-т. Вологда: ВГПУ, 2014. 304 с.
- КСГРС - Картотека Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ, Екатеринбург).
- ЛКТЭ - Лексическая картотека Топонимической экспедиции Уральского федерального университета (кафедра русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ, Екатеринбург).
- НОС - Новгородский областной словарь / изд. подгот. А. Н. Левичкин, С. А. Мызников. СПб.: Наука, 2010. 1435 с.
- Опыт - Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отделением Императорской академии наук / ред. А. Х. Востоков. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1852. 275 с.
- ОСВГ - Областной словарь вятских говоров / под ред. В. Г. Долгушева, З. В. Сметаниной. 2-е изд., испр. и доп. Киров: ООО «Коннектика», 2012—. Вып. 1-.
- Подвысоцкий А. И. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1885. 198 с.
- СВГ - Словарь вологодских говоров: в 12 т. / под ред. Т. Г. Паникаровской. Вологда: Изд-во ВГПИ/ВГПУ, 1983-2007.
- СПГ - Словарь пермских говоров: в 2 вып. / под ред. А. Н. Борисовой, К. Н. Прокошевой. Пермь: Кн. мир, 2000.
- СРГА - Словарь русских говоров Алтая / под ред. И. А. Воробьевой, А. И. Ивановой. Барнаул, 1993-1998. Т.1-4.
- СРГК - Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / гл. ред. А. С. Герд. СПб.: Изда-во С.-Петерб. ун-та, 1994-2005. Вып. 1-6.
- СРГСУ - Словарь русских говоров Среднего Урала: в 7 т. / под ред. А. К. Матвеева. Свердловск, 1964-1987.
- СРНГ - Словарь русских народных говоров / под ред. Ф. П. Филина, Ф. П. Сороколетова, С. А. Мызникова. М.; Л.; СПб.: Наука, 1965. Вып. 1-.
- ТСлРЯ - Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Азбуковник. 1175 с.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. М.: Прогресс, 1986-1987.
- Березович Е. Л. Берестяная рожа и берестяные глаза: Этнолингвистический комментарий к русским диалектным фразеологизмам // Slavische Geisteskultur: Ethnolinguistische und philologische Forschungen. Teil. 1. Frankfurt am Main, 2016. S. 57-81.
- Бродский И. В. Возвращаясь к древнейшим названиям ягод в финно-угорских языках (брусника и морошка) // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования). 2014 / отв. ред. С. А. Мызников. СПб.: ИЛИ РАН, 2014. С.124-139.
- Власова Н. А. Фразеологическое гнездо с вершиной «глаз» в общенародном языке и говорах: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Орел, 1997. 26 с.
- Журавлев А. Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» / отв. ред. С. М. Толстая. М.: Индрик, 2005. 1004 с.
- Завалишина К. Г. Концепт «глаза» в народно-песенной традиции русского, немецкого и английского этносов в лингвокультурологическом аспекте // Лингвофольклористика. Курск: Изд-во Курск. гос. унта, 2003. Вып. 7. С. 74-88.
- Леонтьева М. О. Негативно маркированные обозначения глаз в русских народных говорах: семантико-мотивационный аспект // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) / отв. ред. С. А. Мызников. СПб.: ИЛИ РАН, 2019. С. 411-424.
- Мищенко О. В. К этимологии сев.-рус. талая морошка // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология: материалы II Междунар. науч. конф., Екатеринбург, 8-10 сент. 2012 г.: в 2 ч. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. Ч. 1. С. 198-201.
- Николаева Е. С. Тюркизмы в говорах Русского Севера: дипл. работа / УрГУ. Екатеринбург, 1997. 178 с.
- Толстой Н. И. К проблеме изучения славянских местных географических терминов // Местные географические термины. Вопросы географии. 1970. № 81. С. 46-53.
- Ясинская М. В. Представления о глазах и зрении в языке и традиционной культуре славян: дис. ... канд. филол. наук. М., 2015. 278 с.
- Ясинская М. В. «Человек смотрящий»: лексика и фразеология // Образ человека в языке и культуре / отв. ред. С. М. Толстая. М.: «Индрик», 2018. С. 64-78.