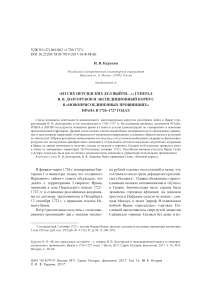"Из сих персидских дел выйти...": генерал В. В. Долгоруков и экспедиционный корпус в "новоприсоединенных провинциях" Ирана в 1726-1727 годах
Автор: Курукин Игорь Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена деятельности командующего экспедиционным корпусом российских войск в Иране генерал-аншефа В. В. Долгорукова и его подчиненных в 1726-1727 гг. На основании архивных документов РГАДА, РГВИА и АВПРИ исследуются положение армии в Гиляне и усилия администрации по «замирению» и освоению присоединенной территории. Данный эпизод можно считать масштабным экспериментом по организации управления и эксплуатации территорий, отличавшихся от метрополии природными условиями, образом жизни и культурой их обитателей. В Иране российское командование столкнулось с отсутствием необходимых кадровых и финансовых ресурсов для эксплуатации приобретенных владений и отчуждением местного населения; внутренние неурядицы в Иране не давали возможность получать доходы от налогов и торговли. Неудача этой политики привела в итоге к отказу от завоеванных территорий. По Рештскому договору 1732 г. Российская империя уступила Ирану Гилян и Астару, поскольку была еще не готова к экономическому освоению и управлению отдаленными провинциями.
В. в. долгоруков, в. я. левашов, иран, провинция гилян, "низовой корпус"
Короткий адрес: https://sciup.org/147219834
IDR: 147219834 | УДК: 94 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-8-48-60
Текст научной статьи "Из сих персидских дел выйти...": генерал В. В. Долгоруков и экспедиционный корпус в "новоприсоединенных провинциях" Ирана в 1726-1727 годах
В феврале-марте 1726 г. императрица Екатерина I и министры только что созданного Верховного тайного совета обсуждали, что делать с территориями Северного Ирана, занятыми в ходе Персидского похода 1722– 1723 гг. и ставшими российскими владениями по договору, заключенному в Петербурге 12 сентября 1723 г. с иранским послом Из-маил-беком.
Петр I рассчитывал получать с «новозаво-еванных провинций» два с лишним миллио- на рублей годовых поступлений в казну, что составляло около трети дефицитного российского бюджета 1. Однако объявление о присоединении вызвало неповиновение и «бунты» в Гиляне. Значительная часть страны была захвачена отрядами афганцев; на шахском престоле в Исфахане сидели их вожди – сначала Махмуд, а затем Эшреф. В охваченном войной Иране «пресеклась» торговля. Последний представитель свергнутой династии Сефевидов «принц» Тахмасп без денег и во- йск скитался по северным провинциям страны, но отказывался признать заключенный его послом Петербургский договор 1723 г.
Выявленные нами документы императорского Кабинета в РГАДА и Коллегии иностранных дел в Архиве внешней политики Российской империи МИД РФ показывают, что российской элите непросто давалось осознание специфики «персидских дел». Последние стали масштабным экспериментом по организации управления и эксплуатации территорий, отличавшихся от метрополии природными условиями, образом жизни и культурой их обитателей, к тому же вовлекли империю в клубок ближневосточных противоречий. В 1724 г. был утвержден договор с Турцией о разделе восточных иранских владений. Но разграничение еще не началось, когда турки перешли в наступление: в марте 1725 г. их войска заняли г. Хой; в июле и августе пали Тебриз и Хамадан; в декабре – Ар-дебиль.
Определение Верховного тайного совета от 10 февраля 1726 г. исходило из позиции четырех его членов (Г. И. Головкина, Д. М. Голицына, Ф. М. Апраксина, П. А. Толстого) и генерал-прокурора П. И. Ягужинского. Война с турками представлялась близкой, и министры решили приступить к строительству крепости на Куре для «коммуникации с Гру-зиею и армяны», послать на Кавказ нового командующего и вместе с ним царя Вахтанга VI, свергнутого турками с престола Картли. Последний должен был «призвать» к союзу шаха Тахмаспа и обеспечить «соединение с армяны и грузинцы» [Протоколы..., 1886. C. 4–6, 23].
Тринадцатого февраля Екатерина назначила «главным командиром» Низового корпуса старого боевого генерала князя Василия Владимировича Долгорукова с возвращением ему чина генерал-аншефа, отнятого Петром во время расследования дела царевича Алексея. Третьего марта министры слушали «рассуждение о персидских и турецких делех» вице-канцлера А. И. Остермана. Опытный дипломат предлагал подумать, стоит ли начинать конфликт с Османской империей, если она сама «войны вдруг с Росси-ею не желает». На основании поступивших из Стамбула известий Остерман утверждал: турки согласны на разграничение сфер влия- ния в Персии и готовы совместно с русскими поддержать шаха (при условии признания им договора 1724 г.) или посадить на престол кого-то другого. Продвижение турок вглубь Ирана также на руку России, поскольку султан будет нуждаться в ее помощи против афганцев или, по крайней мере, в нейтралитете со стороны русского командования. Отказ же от договора покажет не силу, а слабость России; туркам же «претекст и способ подается толь скорее дела свои в Персии по желанию своему окончить, еже интересам нашим видится непотребно».
Главная проблема заключалась в том, что «иждивении и убытки» на содержание в Иране армии «весьма превосходят пользу, которую от тех провинций Россия ныне имеет». Однако «российской интерес не позволяет, чтоб турков к Каспийскому морю и в соседство с персидской стороны допустить». В этой ситуации, по мнению Остермана, остается «какими ни есть образы и способы шаха к принятию того с турками заключенного трактата склонить», для чего можно уступить ему так и не занятые Мазандеран и Астрабад [Там же. C. 109–117].
На заседании 28 марта 1726 г. члены Совета постановили: «…понеже персидские провинции и места все содержать не токмо весьма трудно, но и почитай невозможно – того ради чтоб искать по малу из тех персидских дел выйти, однако же на таком основании, чтоб по всякой возможности стараться, дабы турки в тех местах не могли утвердиться». Надлежало построить не менее десятка транспортных судов, обеспечить войска Низового корпуса провиантом и закупить 10 тыс. лошадей для кавалерии. Тридцать первого марта мнение Совета одобрила императрица [Там же. C. 147–150, 161–162].
Царю Вахтангу VI предстояло ехать не в Баку, чтобы возглавить сопротивлявшихся туркам армян (тех ему надлежало письмами «в верности утверждать»), а в Гилян – уговаривать Тахмаспа поддержать союз с Россией и признать договоры 1723–1724 гг. При этом министры побоялись предоставлять царю полномочия на заключение мира, поскольку «он наипервее всего пожелает получить себе Грузию». Вахтанг предложил было направить его в Шемаху или «от оного армянского дела свободным быть», но подчинился, по- лучив на расходы себе и свите 20 тыс. руб. [Протоколы..., 1886. C. 124–128]
-
В . В. Долгоруков 21 мая выехал из Москвы на юг. По дороге он проследил за отправкой пяти полков генерал-лейтенанта фон Штафа из Нижнего Новгорода и еще тысячи солдат из Казани, а также провианта. В Астрахань генерал прибыл 30 июня. Там он закупил у местных «татар» тысячу лошадей для армии, принял командование от больного Матюшкина и стал знакомиться с положением корпуса и занятых им провинций.
Двадцать шестого июля 1726 г. князь вышел в море и 10 августа, после долгого плавания «за противным ветром», прибыл в крепость Св. Креста на р. Сулак. Девятнадцатого августа он с двумя тысячами драгун и пятью тысячами «нерегулярных» двинулся на юг «блиско самых гор» и 24 августа вступил в Дербент. Демонстрация силы имела успех. «Помянутые ветреные господа (горские «владельцы». – И. К .) пришли в великой страх и в покорение», приезжали с «великою учтивостью» и обещали быть «в верном подданстве», – писал он в Петербург каби-нет-секретарю А. В. Макарову 2. В Дербенте командующий следил за отправкой подкреплений – двух полков в Гилян и трех во главе с генерал-лейтенантом Штафом на Куру. Здесь он встретил Вахтанга VI, вручил ему присланный из столицы орден Св. Андрея Первозванного и отправил морем в Гилян, где уже начались переговоры с уполномоченным Тахмаспа 3.
Следом, проделав нелегкий путь от Трабзона через Эрзерум, Карс и Гянджу, прибыл генерал-майор А. И. Румянцев – он был направлен в Стамбул с ратификацией договора 1724 г. и по окончании миссии назначен уполномоченным по разграничению владений держав в Иране. Румянцеву предстояло ехать в Шемаху, чтобы совместно с турецким коллегой, «дервишем капычи-баши», осуществить демаркацию границы; для этой миссии Долгоруков выделил Румянцеву 400 драгун и 500 казаков. Близ Шемахи разграничение прошло успешно, но в «табасаранском уезде» во владениях казикумухского Сур-хай-хана их встретила толпа, которая стала препятствовать работе; турецкий «комиссар» заявил, что «отправлен границу делать, а не воевать», и уехал 4. В Дербенте скончался капитан Иван Долгоруков – адъютант и племянник бездетного князя. «Толко у меня одно радование было, и то Бог отнял», – скупо сообщил командующий о своей потере Макарову.
Завершив дела, Долгоруков морем переправился в столицу Гиляна Решт, куда вступил 10 ноября. Через три недели, оценив ситуацию, он доложил Екатерине I, что на Куре прибывший с полками генерал-лейтенант Штаф начал строительство крепости Екатеринбург, и «проезд» от крепости Св. Креста до Куры обеспечен. Переговоры Вахтанга с посланцем шаха (корчи-баши Мухаммедом Резой) результатов не дали, и переговорщики отправили своих людей с письмами к шаху, который обретался «за Астрабатом».
Долгоруков доложил об условиях жизни на жарком и влажном южном берегу Каспия. С декабря 1724 по ноябрь 1725 г. общие потери Низового корпуса составили 6 237 чел.; из этого числа в боях погибли только 74 чел. (еще 13 утонули, 60 сбежали, 18 пропали без вести, трое покончили с собой, трое попали в плен, восемь были казнены; некоторые получили отставку), а 5 097 солдат, офицеров и казаков «померли» 5. Согласно рапорту генерала, за четыре месяца (с 1 июля по 1 ноября) 1726 г. в Гиляне из «регулярных» умерли 648 чел., а из оставшихся 7 765 солдат и офицеров больными числились 2 628, т. е. 34 % 6. Войска терпели «работы великие, партии непрестанные»; лошади гибли, поскольку не было пригодной травы, и половину казаков пришлось пересадить на «катырей»-мулов. Высокой смертности способствовали «скудное пропитание» солдат (состоявшее, по словам князя, почти исключительно из «хлеба и воды»), отсутствие лекарств и врачей – даже в главном госпитале в Астрахани имелся всего один лекарь 7.
Между тем турки потерпели поражение от афганцев Эшрефа под Хамаданом и бежали с фронта «компаниями и в рознь».
Долгоруков спрашивал: стоит ли надеяться теперь на союз с османами и поддерживать бессильного шаха? Командующий полагал, что афганский вождь «человек зело умной», а потому предпочтительнее с ним договариваться – иначе Эшреф «с турками обяжетца полезным трактатом». К тому же армянские предводители в Карабахе «с великою проз-бою требуют с нашими войски соединитца, слезно просят хотя некоторую часть к ним прислать», а «того чинить нельзя для озлобления турок». «И сколко могу армян обнадеживаю, чтоб с терпеливостию ожидали несколко времяни, однако ж видят они, что от нас им никакой ползы и надежды нет; и сколко могут, с великою отвагою против турок мужественно поступают», – с горечью сообщал генерал.
Внятного ответа из Петербурга Долгоруков не получил. На заседании Верховного тайного совета 25 января 1727 г., где обсуждались донесения командующего, П. А. Толстой предложил, «соединясь с армяны и грузинцы, турок из Персии выбить» [Протоколы..., 1888. С. 67]. Протоколы Совета не сохранили дискуссий по этому поводу, но ответный указ Долгорукову («слушанный» 20 февраля и «апробованный» императрицей) содержал только повеления об отправке на юг докторов и лекарств, о выдаче жалованья казакам, о награждении В. Я. Левашова орденом Св. Александра Невского и о повышении содержания самому командующему – его сравняли с «полномочными министрами» в столицах европейских держав и пожаловали окладом в 6 тыс. руб. [Там же. С. 121–122, 126, 134–135] Медицинская канцелярия на посланный указ ответила: «лекарские сундуки» с медикаментами отправлены, однако сама она не получила денег на финансирование астраханского госпиталя в 1726 г.; из докторов же, «за неимением оных, послать некого» [Там же. С. 389–392].
Тем не менее Долгоруков не стал отсиживаться в Реште, чтобы «персияне» не думали, «бутто мы только можем держатца по гвар-низонам и за бессилием больше не можем никаких действ в Персии казать». В марте 1727 г. он с отрядом из 800 драгун отправился устанавливать «коммуникацию» между Гиляном и гарнизонами в Баку и на Куре. «В ефте лета зачел жить калмыцким мане- ром», – похвалился командующий в письме Макарову 5 апреля. «Дорога зело злая и студеная была», – сообщил он о своем рейде по прибрежным горам, где проехать можно было только верхом «на вьюках», а «телегами невозможно». Даже в конце XIX в. российские военные, совершавшие поездки по приграничным областям южного соседа, только путь из Решта на Казвин считали пригодной «колесной дорогой», остальные же по-прежнему представляли собой горные тропы [Артамонов, 1889. C. 191].
Русский генерал появлялся с «музыкой», утверждал в должностях и по-восточному жаловал «халатами» местных ханов; последние изъявляли радость от пребывания в российской «порции», «великую мне учтивость показывали и послушание как больше быть невозможно, как в провианте, фураже и подводах с великим довольством давали с радо-стию; сверх всего под драгун презентовали 660 лошадей». Долгоруков, тем не менее, им не доверял и для контроля над «плутом» Му-са-ханом оставил в Астаре гарнизон под началом бригадира Штерншанца 8.
Проделав путь в 720 верст, 29 марта князь прибыл в Дербент, куда к нему явились кайтагский уцмий Ахмед-хан и другие дагестанские правители. Опубликованная 7 мая 1727 г. в Петербурге «Реляция» гласила, что командующий в Персии «привел ея императорскому величеству в подданство персидския провинции, лежащия по берегу Каспийского моря, а именно Кергеруцкую, Астаринскую, Ленкоранскую, Кызылагац-кую, Уджаруцкую, Сальянскую, також и степные народа Муганской, Шегсеванской, Мазаригской провинции пришли в подданство ж. И во время сего его маршу помянутых провинций владельцы ханы, султаны и другие управители… учинили присяги и обещали платить на каждый год в казну ея величества податей по сту тысяч рублев: також и армяня из собрания Саганацкого прислали к нему своих депутатов с прошением, чтоб им всем быть в вечном ея императорского величества подданстве, и дать бы им места для поселения в провинциях, принадлежащих ея императорскому величеству, которые им показаны; и они, армяне, видя те места, довольны оными явились, понеже оные места изрядные, хлебородные и лесные, и желают на оные переходить… И тако с помощью Божиею дела ея императорского величества в Персии благополучно идут» (цит. по: [Алиев, 1975. С. 79–80]).
В донесении 8 октября 1727 г. Долгоруков подводил итог своих трудов: «И как я сюда прибыл, то в великой слабости и опасности были здешние дела, а именно: из крепости Святого Креста версты без конвоя не смели выступить; в Дербенте тако ж на поля за сады не смели выехать, а коли и езживали, то обще собравши с наипом человек по двести и больше; в Ряще без конвоя офицеры из квартиры в квартиру друг к другу не хаживали; а чтобы от Сулака до Дербента и от Дербента до Баку отнюдь не смели сухим путем коммуникацию учинить – и не думали о сем, чтобы могла статься коммуникация… И, будучи я здесь, сколько мог с усердным моим прилежанием вашему императорскому величеству в здешних краях службу показывал, а именно: в какой бодрости все люди ныне обретаются и какая комуникация сухим путем от крепости Святого Креста и до Ряща учинена, о чем обстоятельно вашему императорскому величеству известно, с какою отвагою и с великим азартом с двумястами конвоем от Ряща и до Дербента прошел, и какие сильные действа учинил, и какой неприятелям страх показал, отчего покиня турки Остаринскую, Кергеруцкую, Ленкеранскую провинции, ретировались в Ардевиль, в которых провинциях свои гарнизоны учинил и другие провинции многие в подданство привел, о чем прежде сего с обстоятельством вашему императорскому величеству доносил, с которых доходу будет не малая сумма» [Протоколы, 1891. С. 121–122]. Но сам пожилой командующий уже в июне 1727 г. стал просить себе замену; в донесении от 27 октября он признавался: «Не могу здешнего воздуху несть», – а в декабре доложил о завершившемся разграничении российских и турецких владений и взмолился: «…истинно мочи нет… мне вешнего воздуху в здешних краях не снесть» 9.
Долгоруков знал, что замиренные провинции «бунтовать не умолкают». Среди генеральских бумаг оказалось переведенное на русский язык воззвание вожака повстанцев Агасана, хвалившегося: «Объявляю, что злые безверники [в] Фуминскую сторону от страны бригадир-бека (бригадира и командующего войсками в Гиляне В. Я. Левашова; с 1724 г. – генерал-майора. – И. К .) посланы были и месяцов с шесть в Фуминском уезде стояли. А колко хотели разоряли и разграбили, сожгли и на колья посажали. И милостью его господа бога невредительного божества мы с ними управились, блиско с шесть сот и семь сот человек от оных в клетву отпустили и побеждены в место Рящ ушли». Агасан грозил покорившимся русским жителям Ке-скера: «Велю сжечь и до единого человека побивать», – и призывал соотечественников: «А кто может с российским монархом согласие иметь, и поимать такова безделника бля-дина сына» и доставлять к повстанцам 10.
С «бунтами» приходилось бороться не только «экзекуциями», но и словом. Восьмого мая 1726 г. В. Я. Левашов объявил новым подданным свое повеление – образец колониального красноречия:
«Всем народам объявляетца. Всем уже чрез многие указы и публикацыи известно, что подле моря от Дербени до Астрабата без перерыву все правинцыи вечно прилучены ко империи российской, чего ради всем почтенным духовным шейх-сламом, косам, муллам, ахунам и прочим и гражданским всякого звания людем и деревенским обывателем без всякого сумнения надлежит ея императорскому величеству в верном подданстве и в послушании быть неотложно. И не уповал бы и не надеялся бы нихто на бунтовские и безделные и вымышленные разглашении.
Как нам извесно, недоброжелателные и весма злые к народу разные плуты для своих безделных корыстей в народе внушают и разглашают, и народ бедной в разномыслие развращают, бутто наша здесь бытность временная, а не вечная. И таким развратом и обманом верить не надлежит, понеже от таких уже обманов многие бедные люди, которые лехко и безрассудна таким плутам поверили и от такого обману претерпели превеликие
-
9 См.: АВПРИ. Ф. 77. Оп. 77/1. 1727. Д. 10. Л. 7 –
обиды, отчего многие побиты и переказнены, и сосланы, и разорены. И недавно тому было, что при первом времяни от таких плутов и обманщиков бедной народ обманулся, а ныне бы уже смотря на такие плутовские и коварственные обманы, можно бы уже осторожность иметь. Но и сперва, ежели бы ея императорского величества милостивых указов и моих публикацей и увещаней во всем бы послушны были, то б никому не токмо б живота лишения или разорения приключилось, но и малого бы оскорбления и печали никому допущено не было. В народе же от плутов розглашаетца, якобы от его шахского величества, чрез присылаемых от ея императорского величества посланных некакой бутто бы мир сочиняетца – и то безделники вымышлено и напрасно розглашают и бедной народ в разномыслие развращают и тем их погубляют и розаряют и пот тем грабят, а всяк может лехко разсудить, что премирение надлежало бы быть между неприятелями или случившимся бы каким враждам, а ея императорское величество с его шаховым величеством, кроме древней дружбы и саюза, никакой ссоры иметь не изволит и по прежней любви и дружбе и прилежное попечение иметь соизволит, чтоб его шахово величество на наследственном своем персицком высоком престоле крепкое и непоколебимое утверже-ние и древную монаршескую светлую славу получить имел бы.
А о случившихся здес персицких собраниях, при которых и ея императорского величества ис подданных гилянцов и протчих, забунтовав, присовокупление имеют, о чем, уповаю, его шахово величество известен быть не изволит, но сами помянутые для своих грабителств без указу такие собрании имеют. А бытность здесь войскам ея императорского величества не временная, но всегда вечная, понеже помянутые правинцыи ко империи российской вечно прилучены, и нихто б о том не мыслил и не сумневался и иначе не россуждал бы, понеже при помощи всемогущего бога сему делу неотменно так быть надлежит, как прежде и выше сего показано…» 11.
Официальная позиция, сформулированная в Коллегии иностранных дел, гласила, что «бунты» поднимают бывшие персидские начальники, которые, «лишась лихоимствен-ного их лакомства, стали развращать людей разновидными страхами и привели их в такое замешательство, что российские командиры принуждены были приводить оных в покорность вооруженною рукою» 12. Но «указ» Левашова отмечал и то, что население верило «разглашениям» о скором мире с шахом, после которого русские должны были уйти. Сам шах Тахмасп, утверждал «бригадир-бек», есть верный союзник и о творящихся его именем «собраниях» не подозревает. На деле же Тахмасп, хотя и находился в незавидном положении, покоряться российским «союзникам» не желал, а само его присутствие на формально уступленной территории служило основанием для новых «замешательств».
Сам же Левашов в лояльность новых подданных не верил. «Знатные», по его мнению, все являлись «плутами», да и простой народ не лучше: «…около нас бунтовщики хотя не во умножении и хотя непрестанно разгоня-ютца, но непрестанно докучают, и как собаки по лесам и по дорогам ходят и переезжим и пешим препоны чинят и из деревень, где наши люди, ходить возбраняют», – докладывал бригадир 12 мая 1726 г. Он же пытался пресечь «народное развращение и суеверное их мнение на базаре неоднократно з барабанным боем, чтоб бунтовским развратом не верили, словесно внушать и писменными публикациями», но вынужден был констатировать, что «мало что успевает», ибо «здешной народ ехиднова прирождения и яко аспиды глухи» 13.
В письме к Долгорукову в январе 1728 г. он признавал, что «народ озияцкой по закону и по прочим делам с нами весма несогласен», а месяц спустя выразился еще более резко: «Здешние народы некоторые явные и тайные все нам неприятели, и серца их не бе с нами право имеютца» 14. В следующем году генерал докладывал в столицу: спустя несколько лет по установлении российского господства новые подданные «по природной гордости и многому суеверию» по-прежнему считают, что «россияном в Персии не быть» 15.
Долгоруков еще надеялся, что все «бунты прекращены быть имеют», но все же в мае 1727 г. писал в Петербург, что продолжать «прогрессы» и даже занять Астрабад, формально уже принадлежащий России по Петербургскому договору, невозможно без присылки дополнительных войск, поскольку «злые и непостоянные народы» не желают признавать себя российскими подданными 16. Не понимал он и «персидскую самую глупость и слабую надежду и суеверие»: отчего они довольны победами афганцев над турками, но не желают принять «протекции российской» 17?
В июне 1727 г. Левашов докладывал начальнику, что на дорогах Гиляна вновь появились «завалы, перекопы и шанцы» 18. «Кумуникации» прерывались; уже покоренные земли опять приходилось «приводить в подданство»; эти усилия требовали присылки новых войск. Местные ханы и султаны боялись русских солдат и их начальников, но при их отсутствии перебегали во владения шаха или к туркам. После побед иранцев над афганцами и турками «почали являтца развратные и возмутительные письма, и народы шатаютца», докладывал Левашов летом 1730 г. 19
Полученные доходы оказались на порядок ниже ожидаемых. Всего при В. В. Долгорукове в 1726–1728 гг. было собрано 354 826 руб., но половина средств ушла на жалованье солдатам и офицерам, представительские расходы, подарки разным «владетелям», изготовление лодок, содержание за-ложников-«аманатов». При отставке в 1728 г. князь повез с собой в столицу оставшиеся 170 161 руб. в персидской монете 20. Поступления намного уступали расходам: на жалование и провиант войскам Низового корпуса в 1726 г. из центра ушло 259 659 руб., а в 1727 г. – 379 009 руб. 21 Только приморские земледельческие области Гиляна и Ширвана (Мушкур, Низават, Шеспара, Бермяк) платили налоги, хотя и «в малом числе» по причине разорения жителей. «Горские» же территории Дагестана, как признавали военные власти, кроме своих владельцев, «не платят податей никому и платить не будут» [Гербер, 1958. С. 71, 77, 88, 90, 92, 101, 104, 105].
Упали платежи за нефть из бакинских «колодцев» – некоторыми из них население пользовалось «безденежно», пока командующий не отправил охрану с пушками. К тому же объемы торговли нефтью сократились из-за военных действий. Армянские купцы в Гиляне провозили «чужие товары под своим протектом» и представили Левашову указ из Коммерц-коллегии с разрешением не платить пошлин. Генерал-майор предположил, что «помянутой указ армяне в Санкт Питербурхе купили», и добился нового указа, разъяснявшего, что предыдущий действует «токмо в России, а не в персицких наших провинциях», где издревна пошлина «с шелка у веса беретца» 22.
Наиболее доходным предприятием оставался заведенный еще в 1723 г. винный завод в Дербенте. Стараниями определенного туда Долгоруковым мастера-винодела майора Турколя он выдавал несколько десятков бочек белого и красного «чихиря». Однако основным потребителем алкогольной продукции оставалась российская армия – мусульмане ее не оценили. Открытые в Дербенте и Баку «кружечные дворы» стали для командования источником экстренного финансирования при «неприсылке денежной казны» из России.
Не оправдались надежды на прибыли от производства шелка. Присланные в 1725 г. в Петербург образцы с «новозаведенного ея императорского величества заводу» в Гиляне были признаны пригодными для изготовления штофов и чулок. Но Левашов в донесении от 18 мая 1727 г. рассказал, что заводские «сараи» были построены его солдатами, кровли и солома взяты «с ызб бунтовских деревень», а тутовые листья на корм червям – из конфискованных «садов бунтовщиков». Однако сложная работа по выведению шел- копрядов оказалась военным не под силу: на «заводе» работали местные мастера-шелководы, которым по обычаю надо было отдавать половину готовой продукции или «на деньгах содержать», но при запрошенной плате себестоимость фунта шелка равнялась трем рублям – почти как в Петербурге, и дешевле было скупать товар у местных жителей. Как докладывал Левашов, армейское шелководство возможно только «при своих работниках и при чюжих тутовых садах», т. е. при использовании труда мастеров, которым можно было платить «с умалением», и даровом корме для шелкопрядов. Когда этот корм закончился, генерал сделал вывод, что «завод» «никако содержать невозможно, понеже не прибыток, но великой убыток приносит» 23.
Больше всего войска страдали от непривычных климатических условий и болезней. Из лекарств в наличии имелись лишь уксус и вино, да и тех не хватало. В декабре 1727 г. Верховный тайный совет указал «в Гилянь, на Куру и в Баку для тамошнего злого и вре-дительного воздуха людям и тяжкой болезни в Низовой корпус отпускать на всякой год по 6 000 ведр вина от Камер-коллегии безденежно» [ПСЗ-I, 1830. Т. 7. № 5213. С. 908].
В донесениях Долгорукова содержится записка штаб-лекаря Антония де Телса о состоянии гарнизона. Из нее следует, что летом войска страдали от «жаров превеликих и яко бы огнем палящих», а осень и зима были «зело дождевые с мерной теплотою». «Не-изщетными лесами и превысокими горами оный воздух окружен есть, от чего следует, что портится и более густеет, и для того завсегда в мокроте живем и якобы плаваем». От «туманного и болотного воздуха… зело мозг заражается и отягчевается, оттуду в чувстве и движении слабость», а также развиваются цинга и «водяная болезнь». Мука и крупа «прокисают»; червивое мясо и местные фрукты вызывают у солдат «кровавые поносы» и «преострые бещисленные лихорадки», которые «в кратком времени житие их в смерть превращают» 24. Доктор и сам недолго выдержал – в июне 1727 г. «объявил, что он имеет многие болезни и невозмож- ность, от которой имеет опасность от здешних воздухов», и отбыл в Астрахань, после чего командующий должен был требовать его замены [Протоколы..., 1888. С. 623–624].
Долгоруков сам побывал на Куре и убедился, что это «весьма место злое и неудобное и не менши Гиляни утеря людей». В крепости «все без остатку больны и лежат при смерти», так что лишь «некоторые из урядников и салдат с великою нуждою караул содержат и живут в великом страхе и умирают в сутки ис трех полков человек по 20 и больше». Генерал приказал вывести солдат из крепости «в шалаши». Но и эта мера помогала мало, поскольку «от жаров и от воды духота стала быть; и во многих местах выступает из земли вода, а все солончаки». Войска косили «горячки, лихорадки и цынгота»: в июне заболело 785 чел. и умерло 86, в июле – соответственно 877 и 178 25. За дровами и лесом надо было отправляться на судах за десятки верст.
В 1727 г. в лагере на Куре скончались 1 804 чел.; 1 496 из имевшихся налицо 2 636 солдат и офицеров были больны. Некому было командовать: умерли генерал-лейтенант Штаф, генерал-майор Шипов, двое полковников, трое майоров, 16 капитанов, по восемь поручиков, подпоручиков и прапорщиков; полковые квартирмейстер, поп и лекарь. Остававшийся старшим по чину бригадир Штерншанц – «стар и не умеет по-русски», а заменить его было некем: «… ис полковников ни одного такова нет, на кого б мошно надеятца», – сокрушался Долгоруков 26. В сентябре пришлось начать вывод войск. Тем самым была похоронена мечта Петра I о создании на Куре нового центра «восточной коммерции». Долгоруков с горечью писал, что «все не так донесено блаженные и вечно достойные памяти императорскому величеству: не токмо морских судов строить, и дров нет»; а потому здесь можно держать лишь «небольшую крепостцу на ба-талион… для комуникации и для укрепления
Сальянской провинции» [Протоколы..., 1889. С. 913].
Начальник Низового корпуса понимал, что «командующие в персидских местах народ персидский, который весьма непостоянный и шаткий, не одним воинским искусством и силою оружия в подданстве и в покорности содержать могут, но больше особливыми искусными с ними поступками и обхождением», и сожалел об отсутствии «достойных полковников» и о том, что в южные края отправляются далеко не лучшие кадры. Князь объяснял императрице и Военной коллегии: в «новозавоеванных провинциях» царит «безмерная дороговизна», генералы и офицеры «без прибавки жалования пропитать себя не могут», и от невыносимых условий уже один майор и трое капитанов «с ума сбрели» 27. В 1727 г. князь добился для «своих» офицеров повышения жалованья и увеличения провиантского довольствия [Протоколы..., 1888. С. 88; Опись..., 1875. С. 48, 53]. Это повышение обошлось казне в 241 077 руб., которые было велено изыскать из «не положенных в штат» доходов и «остаточных» средств 28.
На протяжении 1726 г. с письменными просьбами о помощи к российским властям обращались армянский патриарх Есаи, карабахский юзбаши Аван и другие командиры повстанцев. О том же просили армяне соседнего Сюника – их предводитель Мхитар-бек указывал, что турки «со всех четырех сторон наши крепкие места обступили» [Армяно-русские отношения..., 1967. С. 275–277, 284, 286, 287, 289, 290]. В ноябре от командиров армянского «собрания» прибыл гонец Христофор, а в январе 1727 г. в Решт добрались их посланцы Багы-юзбаши и Кевга-че-леби. Командующий вновь писал императрице, что турки «в нашу порцию вступили», но их наступление выдыхается; предлагал соединиться с армянами и выступить против турок, иначе «нынешнее благополучное время пропустим». О том же он писал и Макарову: нельзя ждать, пока турки «в силу войдут»; надо немедленно «помянутых мнимых приятелей выгнать ис Персии и самим с помо- щью всевышней в Персии уселитца и утвер-дитца» 29.
Но, не имея указа из Петербурга, Долгоруков повез армянских посланцев с собой в Дербент, «понеже их отпустить не с чем, не имея указу обещать им протекцию, а ежели б им отказать, то вовсе их от себя отогнать». Обоих он отправил в столицу, где они безуспешно просили «оборонить от варвар» их земли; но Коллегия иностранных дел отослала их обратно и предписала Долгоруко- ву «под приличными претекстами» держать армян на «добрых квартирах» в Астрахани и даже наградить Багу-юзбаши золотой медалью – лишь бы протянуть «довольное время» без ответа 30.
Армянам предлагалось «обождать» или переселяться в Мушкур, где Долгоруков сам показал пригодные для жизни места 31. Однако надежды на переселение в российские владения (на что рассчитывал Петр I, издавший по этому поводу особую грамоту армянскому народу от 10 ноября 1724 г.) [Армяно-русские отношения..., 1967. С. 208] не оправдались. Долгоруков признал, что о том, чтобы покинуть родные края, они «и слышать не хотят, и правда, великой резон есть: первое, покиня купечество свое; другое, такие места избранные и угодные оставя, итти в такие места безплодные, что никакой пол-зы к пропитанию своему не сыщут» 32.
Командующий сомневался и в полезности армянского ополчения: «Нам в войске их никакой нужды нет, и пользы из них не будет: сухим путем никуды, на Астрабад и в другие тому подобные места, не годны, водою и давно не надобны. Например, хотя бы армянского войска было у нас до пяти тысяч: кроме великой и несносной суммы денег помянутым на заплату, не стоят оные одного полку нашего пехотного или драгунского; к тому ж повелеваете ваше величество мне, хотя с терпеливостью с турками надлежит нам себя содержать и обходитца дружески, а коли армян в службу примем, кои по трактату надлежат в порцию Порте, кажетца, не без опасности к нарушению трактата». Он считал возможным лишь строительство крепости близ границы на Араксе, куда «армяне, ежели похо-тят, безопасно могут выйтить во владение вашего величества» (цит. по: [Армяно-русские отношения..., 1967. С. 294–295]).
Продолженные было весной 1727 г. переговоры Левашова с корчи-баши завершились составлением «форм» будущего договора; в апреле 1727 г. Долгоруков еще надеялся, что шах его подпишет 33. Но в феврале 1728 г. гонец Тахмаспа передал: шах готов к переговорам, но «турецкого трактата принять не может». Докладывая об этом Долгорукову, Левашов все же настаивал на продолжении уговоров шаха 34. Но командующий решил иначе – он сделал ставку на Эшрефа. Царя Вахтанга Долгоруков отправил обратно в Россию. Посланный к Тахмаспу консул Семен Аврамов был поражен непригодностью безвольного принца и его вельмож к государственной деятельности в сочетании с непомерными амбициями. Первый министр («эхтима-девлет») поразил намерением посвататься к российской принцессе; при этом изгнанник-шах еще не решил, «которую де лутче взять, дочь или мать» – т. е. то ли саму Екатерину I, то ли одну из ее дочерей. А пра-витель-«векиль» Фатх Али-хан искренне недоумевал: «Жена разве может быть государем? И для чего вашей царевне не быть за нашим шахом?» 35.
Проблема перестала быть актуальной после казни обоих вельмож. Однако политическим беседам принц предпочитал распитие «чихиря» и «разговоры блудные и про грех содомской» 36. Шах называл консула «мой Семен» и назначил поставщиком двора по части горячительных напитков. «Приходили ко мне от шаха за водкою, с которыми отослана бутыль»; «отпущены к шаху вотки три бутылки» – такие заметки встречаются в его «дневной записке» о пребывании при персидском дворе.
Скоро принца прибрал к рукам его полководец Надир, которого Тахмасп «назвал Тах-мас Кулы-ханом» (рабом Тахмаспа. – И. К .). В октябре 1727 г. Тахмасп устроил бунт против опекуна, но тот «шахово войско разбил и самово шаха в полон взял, и шах ночью тайным образом, взявши рукомойник якобы для управления, убежал пеш с милю и Тахмас де Кулы-хан вскоре хватился, пеш за шахом погнался один и как шаха нагнал, шах с великой печали едва сам себя ножом не убил, ежели бы не отнял». Аврамову удалось было летом 1728 г. уговорить Тахмаспа утвердить договор 1723 г., и соответствующая грамота уже была послана к Левашову; но гонцы были задержаны Надиром 37. От огорчения номинальный повелитель Ирана ежедневно присылал за водкой и проводил время в обществе «музыкантов и блядей», в то время как Надир от его имени рассылал указы.
Долгоруков верно предсказал сближение турок с Эшрефом. Вслед за состоявшимся в ноябре 1727 г. турецко-афганским миром начались неприятельские действия. Наместник Казвина Сайдал-хан с четырехтысячным афганским отрядом и вспомогательным персидскими частями объявился на границе Гиляна. 20 декабря 1727 г. под Лагиджаном его встретил майор Кескерского полка Иван Юрлов с командой из 200 солдат, 20 драгун, 20 казаков и 50 конных грузин и армян. Сайдал-хан бросил на горстку людей конницу в «панци-рех» и «железных шишаках», но встреча с регулярной частью закончилась для афганцев плачевно: они были встречены залповым огнем, повернувшая назад конница затоптала свою же пехоту, и все нападавшие побежали с поля боя от штыковой атаки. Отряд Юрлова потерял в бою пять чел. убитыми и 28 ранеными; со стороны неприятеля было «побито и потопло в реке» 600 чел. 38
В итоге переговоров с афганскими вождями Левашов в ноябре 1728 г. заключил с Эшрефом «трактат», по которому тот признавал российские завоевания в Иране. Однако сам Левашов не раз высказывал мнение о ненадежности мира: «Авганская сторона ныне слаба и Персиею всею ненавидима».
Основной опорой оставались войска: при Долгорукове в Низовом корпусе состояли семь драгунских и 15 пехотных полков, «нерегулярные» казаки и конные армянский и грузинский «шквадроны» общим числом 25– 30 тыс. чел. Но эти силы, разбросанные на значительном пространстве, с трудом могли поддерживать порядок в занятых провинциях.
Весной 1728 г. Долгоруков отбыл в Москву, где был произведен в генерал-фельд-маршалы. Он остался главным командиром над корпусом; к нему писали Левашов и Румянцев, он же докладывал их рапорты в Верховном тайном совете. Князь требовал «переменять» офицеров через два года, поскольку служившие «с начала, без перемены, оболели и охоту потеряли к службе вашего величества, и кои отсель посылаются, те причитают себе за ссылку, что и правда есть резон – без перемены до смерти быть в Персии походило на ссылку; а ежели с переменою двугодною, учиня справедливую очередь, не надеюсь, кто б мог отговариваться» [Протоколы..., 1894. С. 9, 416]. Обращения подействовали: в 1728 г. в Низовой корпус были направлены 124 офицера с повышением в чине (см.: [Там же. С. 416]), в 1730 г. – 74 офицера 39. Возвращавшимся же по решению Верховного тайного совета предоставляли годичный отпуск (см.: [Там же. С. 672]). В том же году «вер-ховники» утвердили «мнение» Долгорукова о перемене штаб- и обер-офицеров через три года «по третям каждого чина»; генералы же должны были отслужить по три года полностью [Протоколы..., 1898. С. 41–42].
Но в будущее «новозавоеванных провинций» в составе Российской империи князь уже не верил. В составленном в начале 1731 г. для императрицы Анны Иоанновны «доношении» Долгоруков предложил даже «и не заключа миру, выйти из персицких дел без стыда». «Сильнея и богатея нас Порта с стыдом и уроном великим выбита, и какие бедства и канфузию от персицкой войны понесла, о том всему свету уже известно». Однако фельдмаршал представлял себе турецкий потенциал и возможности своих сил:
«И хотя бы мы что имеем в Персии провинции от порции своей, хотели за собою удержать, то никак не можно: или от турок, или от персиян, а выбиты будем, со стыдом и с убытком принуждены будем ретироватца и зело будем сожалеть сего благополучного времяни. Персицкой хомут с шеи снять случай без стыда есть». Чтобы не пропустить «безстыдно выход из персицких дел», остается одно – отступить до Баку. Тогда, по мнению Долгорукова, «поморские провинции, кои нашей порции были, все с шахом проти-ву турок будут, а нашему генералу под рукою саганацких apмян, муганского хана и других тому подобных противу турок возбудить, и тако можно надеется, чтоб далних прогрессов Порта в Персии учинить не может». Конечно, лучше бы сначала «трактат с шахом учинить и выступить из Гиляни к Баке». «Токмо, – заключал он свою записку, – я не надеюсь по глупой спеси и суеверию персицкому учинить с нами трактат»[Петрухинцев, 1993. C. 36–37].
Так и произошло. По Рештскому договору (январь 1732 г.) Российская империя ради «вечной соседственной дружбы» уступала Гилян и Астару «по Куру реку» – в обмен на беспошлинную торговлю в Иране и амнистию всем, кто служил русским. Война за польское наследство (1733–1735) и перспектива большой войны с Турцией заставили решить судьбу оставшихся владений. Двадцать девятого октября 1734 г. императрица сообщила командующему Низовым корпусом В. Я. Левашову об окончательном решении «от понесенных поныне персидских тягостей единожды освободиться». Союзный договор с Ираном был подписан 10 марта 1735 г. в лагере Надира под Гянджой и возвращал «Баку и Дербент, и с подлежащими землями, деревнями, по-прежнему, Иранскому государству». Однако едва ли стоит считать эти решения принципиальным отступлением от «заветов» Петра I. Молодая империя была еще не готова к экономическому освоению и управлению отдаленными заморскими провинциями, которые пришлось «не без великого убытку и тягости содержать» [ПСЗ-I, 1830. Т. 8. № 6077. С. 841].
Список литературы "Из сих персидских дел выйти...": генерал В. В. Долгоруков и экспедиционный корпус в "новоприсоединенных провинциях" Ирана в 1726-1727 годах
- Алиев Ф. М. Антииранские выступления и борьба против турецкой оккупации в Азербайджане в первой половине XVIII в. Баку: Элм, 1975. 229 с.
- Артамонов Л. К. Персия как наш противник в Закавказье. Тифлис, 1889. 193 с.
- Петрухинцев Н. Н. Опальный фельдмаршал//Родина. 1993. № 12. С. 34-37.