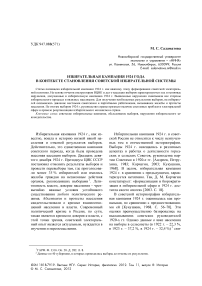Избирательная кампания 1924 года в контексте становления советской избирательной системы
Автор: Саламатова Марина Сергеевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 8 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена избирательной кампании 1924 г. как важному этапу формирования советской электоральной политики. На основе отчетов инструкторов ВЦИК и дел о кассации выборов характеризуются ход и основные нарушения, допущенные в избирательную кампанию 1924 г. Выявленные нарушения охватывали все стороны избирательного процесса и являлись массовыми. Для получения необходимых результатов выборов, на избирателей оказывалось давление местными советскими и партийными работниками, вызывавшее жалобы и протесты населения. По итогамвыборов 1924 г. руководство страны призналоналичие системныхпроблем в электоральной сфере и провелореорганизацию избирательного механизма встране.
Советские избирательные кампании, обследование выборов, нарушения избирательного законодательства
Короткий адрес: https://sciup.org/14737929
IDR: 14737929 | УДК: 947.088(571)
Текст научной статьи Избирательная кампания 1924 года в контексте становления советской избирательной системы
Избирательная кампания 1924 г., как известно, вошла в историю низкой явкой населения и отменой результатов выборов. Действительно, это единственная кампания советского периода, когда была проведена массовая кассация выборов. Двадцать девятого декабря 1924 г. Президиум ЦИК СССР постановил отменить результаты выборов и провести перевыборы там, где проголосовали менее 35 % избирателей или имелись жалобы граждан на незаконные действия органов, руководивших выборами 1. Легитимность власти, доверие населения – чрезвычайно важные условия устойчивого существования любого политического режима. Абсентеизм и протесты населения свидетельствовали о кризисе взаимоотношений населения и власти. Современный политический кризис в России, по сути, также является кризисом доверия к власти, с этой точки зрения, советский электоральный опыт является актуальным, нуждается в изучении и переосмыслении.
Избирательная кампания 1924 г. в советской России не относится к числу неизученных тем в отечественной историографии. Выборы 1924 г. освещались в различных аспектах в работах о деятельности городских и сельских Советов, руководства партии Советами в 1920-е гг. [Андреев, Петрухина, 1983; Корчагин, 2003; Кукушкин, 1968]. В целом, избирательная кампания 1924 г. в сравнении с предыдущими, характеризуется негативно. Так, Д. М. Корчагин констатирует: «формализация и бюрократизация в избирательной сфере в 1924 г. достигла своего апогея» [2003. С. 18].
В советской историографии избирательная кампания 1924 г. оценивалась как провальная, по сравнению с предшествовавшими ей [Кукушкин, 1968. С. 56–70]. Эти оценки преимущественно базировались на высказываниях советских руководителей 1920-х гг. Однако данные о явке населения на выборы в сельсоветы (в 1922 г. – 22,3 %, в 1923 г. – 37,2 %, в 1924 г. – 32,4 %) 2 сви- детельствовали о снижении активности населения, но не о провале [Гурвич, 1925. С.11]. Почему в советской прессе и выступлениях советских руководителей уже на стадии предварительного подведения итогов выборной кампании в 1924 г. стал активно обсуждаться вопрос о «формальном проведении» и «провале» выборной кампании? [Калинин, 1925. С. 7; Белобородов, 1925. С. 8–10].
Представляется, что появление предположения об абсолютной формальности выборов 1924 г. в советской прессе и в высказываниях руководителей связано с рядом причин. Главной из них стало несоответствие ожиданий, на которые рассчитывало политическое руководство страны, и результатов этой избирательной кампании. Накануне выборов был продекларирован курс на «оживление Советов», принята новая инструкция о выборах, провозглашено ослабление административного давления.
Кроме того, избирательная кампания 1924 г. стала первой кампанией, проведение и итоги которой внимательно отслеживались и анализировались. В 1924 г. сотрудниками ВЦИК впервые было проведено массовое обследование выборов на всей территории страны. Сведения по избирательным кампаниям 1922 и 1923 гг. носили фрагментарный характер, и составить достоверное мнение о них не представлялось возможным. Не все регионы даже считали необходимым присылать сведения о ходе и итогах выборов [Гурвич, 1923. С. 107; О результатах выборов, 1923. С. 74].
Существовал и еще один аспект: перед выборами 1924 г. руководство избирательной кампанией было передано от Наркомата внутренних дел во ВЦИК. Принимая решение о массовом обследовании кампании 1924 г., руководство ВЦИК, выражало желание выяснить истинное положение дел в руководстве выборами, механизме их организации и проведения, подведения итогов 3.
Отчет об обследовании выборов, проведенный сотрудниками ВЦИК, а также дела о кассации, рассматривавшиеся Президиумом ВЦИК, позволяют составить относительно объективное представление об особенностях организации избирательной кампании 1924 г.
и допущенных в ее ходе нарушений. Для изучения была сформирована репрезентативная выборка из регионов (под обследование попали выборы в 46 волостях). Проверялись как центральные, так и отдаленные регионы (Урал, Сибирь, Дальний Восток), волости с преимущественно русским и национальным населением. Итоги этого масштабного исследования обсуждались на Совещании по советскому строительству в 1925 г. [Совещание…, 1925. С. 18–19].
Относительно руководства и организации выборов отмечалось либо полное отсутствие подготовительных мероприятий, либо их неоперативность. Только в 26 из 46 волостей присутствовали какие-либо подготовительные мероприятия. Местные работники относились к выборам как к формальной процедуре, сельские избирательные комиссии чаще всего создавались в день выборов. Для проведения выборов выделялись случайные люди, не пользовавшиеся авторитетом среди населения 4.
Как массовый недостаток подчеркивалось отсутствие своевременного извещения населения о выборах и предвыборной агитации. Лишение избирательных прав либо не осуществлялось вовсе, либо проходило со значительными нарушениями 5. Ограничение в избирательных правах нередко являлось способом сведения личных счетов: «из-за личной неприязни не допускаются к выборам прежние председатели волиспол-комов, неоднократно выбиравшиеся на эти посты» 6.
Обследование выявило и прямые нарушения норм представительства. Так, инструкторы ВЦИК констатировали, что в 4 волостях избирался 1 член сельсовета от 50 жителей, в 7 волостях – от 100, в 18 волостях – от 200, в 12 волостях – от 250, в 8 волостях – от 300 (Конституцией РСФСР 1918 г. предусматривалось избрание 1 депутата сельсовета от 100 чел.). Проверявшие отмечали, что нормы устанавливались «по личному усмотрению» 7.
Особый интерес представляют данные о ходе выборов, поведении населения на выборах, причинах абсентеизма. Все инструк- торы ВЦИК признали явку населения на выборах неудовлетворительной, в среднем по обследуемым волостям она составила 28 %, хотя в некоторых волостях она не превышала 9 %. При этом протокольно зафиксированный показатель активности ставился под сомнение. Сотрудники ВЦИК отмечали, что «в протоколах фиксировалось больше избирателей, чем было в действительности, чтобы собрания имели большую юридическую законность, и чтобы не созывать их повторно» 8.
Абсентеизм населения объяснялся не только техническими причинами (слабой подготовкой выборов, неудачностью времени проведения выборной кампании, совпадением с другими «хозяйственно-политическими» кампаниями, дальностью расстояния до избирательных участков, отсутствием вместительных помещений под проведение выборов), но и использованием жесткого административного давления на население 9.
В традиционных отчетах, предоставляемых различными регионами о выборах, достаточно редко можно встретить упоминания о применении административного ресурса, местные органы старались представить положение дел в благоприятном для себя виде 10. Поскольку у инструкторов ВЦИК стояла задача выявить истинное положение дел, то они зафиксировали немало случаев нарушений органами власти избирательных процедур. Председатели местных исполкомов (волостных, уездных, районных) настаивали на выдвижении и избрании непопулярных кандидатур, чем вызывали как пассивный, так и открытый протест населения. В Кущевском районе Донского округа «крестьяне протестовали против выставленных списков молчаливым отказом голосовать» 11. Применение прямого административного нажима приводило к отказу крестьян являться на выборные собрания. Такие факты были зафиксированы в Воронежской и Новониколаевской губерниях, где крестьяне сообщали проверявшим: «Иди не иди, все равно выберут того, кого захочет власть и сделают так, как захочется власти» 12.
Еще более развернутое представление об использовании административного ресурса в ходе этой выборной кампании можно составить по делам о рассмотрении жалоб на нарушения в ходе выборной кампании 1924 г. (дела о кассации). В жалобах, поступивших из Мальчевского райисполкома Донецкого округа Северо-Кавказского края, из Ольховской волости Тамбовской губернии и Каменского района Шахтинского округа Северо-Кавказского края, описывались грубые нарушения избирательного процесса. Давление оказывалось на участников съездов как при выдвижении, так и при голосовании за кандидатов. В ход шли угрозы, крестьян допрашивала милиция, запугивали советские и партийные работники, в ряде случаев доходило до физического воздействия на участников съездов 13.
В резюмирующей части отчета об обследовании констатировалось, что «несмотря на принятые меры, избирательная кампания провалилась, политика оживления Советов не воспринята местами совершенно, никаких изменений по сравнению с прошлыми выборами не наблюдалось» 14. Это довольно точная оценка избирательной кампании 1924 г., которая в полной мере подтверждается и другими источниками.
Сложно согласиться только с мнением о принятых мерах, орготдел ВЦИК их существенно преувеличил. Избирательная инструкция 1924 г. принималась практически одновременно с началом выборной кампании, времени на перестройку работы в соответствии с ее требованиями не оставалось. Местные партийные и советские работники оказались не готовы к резкому изменению избирательных процедур, а тем более к переходу от уже испытанного применения административного давления к честной конкуренции с выдвиженцами от населения.
Более того, в противовес ожидаемому, обследование выборов 1924 г. выявило сопротивление местного советского и партийного актива провозглашенному «новому курсу». Поведение местных партийных и советских работников при расследовании случаев нарушения избирательных прав свидетельствует, что применение административного давления имело характер устоявшейся практики, представители местного аппарата не видели в этом ничего экстраординарного. Многие из них выражали недоумение относительно предъявляемых требований к ним, поскольку, по их мнению, выборы 1924 г. были организованы не хуже всех предыдущих. Принятое по итогам выборов Постановление Президиума СССР от 29 декабря 1924 г. «О перевыборах в Советы в тех районах, где имели место неправильности в работе избирательных комиссий» 15 воспринималось на местах неоднозначно, местные работники выражали нежелание отменять результаты выборов и проводить новые [Итоги работ Совещания…, 1925. С. 2].
После предварительного подведения итогов выборов 1924 г., различных обследований были сделаны выводы, прежде всего организационно-политические. Самый очевидный – в значительной части регионов отменялись результаты выборов, в 39 губерниях и областях назначались повторные выборы, из них в 12 губерниях выборы были отменены полностью и в 27 губерниях – частично [Белобородов, 1925б]. Тем самым руководство страны признало наличие системных «сбоев» в электоральной сфере.
Избирательная кампания 1924 г. имела значимые последствия для последующего развития советской электоральной системы. Была проведена реорганизация избирательного механизма. В частности, руководство и текущая работа по выборам, включая разработку форм избирательной отчетности, передавались от НКВД к ВЦИК. Для текущего руководства избирательными кампаниями в 1925 г. при ВЦИК создавалась Всероссийская Центральная избирательная комиссия. Началось совершенствование избирательного процесса, вносились изменения в избирательные инструкции и формы отчетности. После осознанных уроков кампании 1924 г. начался переход от «стихийной» организации выборных кампаний, от отсутствия единых избирательных норм и процедур к их унификации и централизации. Помимо организационных изменений, была несколько демократизирована выборная система – расширен круг избирателей, созданы условия для активного участия населения на выборах, уменьшено административное давление со стороны местных партийных и советских работников, что позволило провести самую либеральную советскую кампанию 1920-х гг. – зимнюю кампанию 1925/26 г.
Впрочем, либерализация по-советски длилась недолго и вызвала значительно бо́ льшие опасения у руководства страны, чем применение административного ресурса и абсентеизм населения. В 1925 г. местные руководители продемонстрировали неготовность конкурировать не только с другими партиями, но даже с представителями непролетарских слоев населения. В итоге в 1926 г. демократический элемент выборов, привнесенный кампаниями 1924 и 1925 гг., был выхолощен, акцент сделан на унификации и централизации избирательного процесса. Выборы с заведомо известным результатом оказались более органичными для советской политической системы.
THE ELECTION CAMPAIGN OF 1924
IN CONTEXT OF FORMATION OF THE SOVIET ELECTORAL SYSTEM