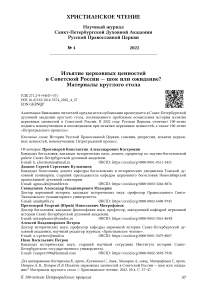Изъятие церковных ценностей в советской России - шок или ожидание? Материалы круглого стола
Автор: Костромин Константин Александрович, Кульпинов Сергей Сергеевич, Мазырин Александр Владимирович, Митрофанов Георгий Николаевич, Петров Алексей Владимирович, Петров Иван Васильевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: К 350-летию Петра Великого
Статья в выпуске: 4 (103), 2022 года.
Бесплатный доступ
Вниманию читателей предлагается публикация прошедшего в Санкт-Петербургской духовной академии круглого стола, посвященного проблемам осмысления истории изъятия церковных ценностей в Советской России. В 2022 году Русская Церковь отмечает 100-летие подвига новомучеников и исповедников при изъятии церковных ценностей, а также 100-летие «Петроградского процесса».
История русской православной церкви, гонения, репрессии, изъятие церковных ценностей, новомученики, петроградский процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/140296143
IDR: 140296143 | УДК: 271.2-9+94(47+57) | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_4_37
Текст статьи Изъятие церковных ценностей в советской России - шок или ожидание? Материалы круглого стола
E-mail: k. ORCID:
E-mail: ORCID:
E-mail: ORCID:
E-mail: ORCID:
E-mail: a. ORCID:
E-mail: ORCID:
Archpriest Konstantin Alexandrovich Kostromin
Candidate of Theology, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Research and Theological Work of St. Petersburg Theological Academy.
E-mail: k. ORCID:
Deacon Sergei Sergeevich Kulpinov
Candidate of Theology, Associate Professor of the Department of Theological and Historical Disciplines of the Tomsk Theological Seminary, Senior Lecturer of the Department of Church Theology of the Novosibirsk Orthodox Theological Seminary.
E-mail: ORCID:
Priest Alexander Vladimirovich Mazyrin
E-mail: ORCID:
Archpriest George (Yuri) Nikolaevich Mitrofanov
E-mail: ORCID:
Alexey Vladimirovich Petrov
E-mail: a. ORCID:
Ivan Vasilievich Petrov
Candidate of Historical Sciences, Senior Research Fellow at the Institute of History of St. Petersburg State University.
E-mail: ORCID:
Прот. Константин Костромин: Дорогие коллеги! Мы начинаем работу нашего круглого стола. В этом году мы, как известно, вспоминаем печальные события 100-летней давности, когда, используя как повод всеобщее разорение и голод, большевики организовали масштабную антицерковную акцию — изъятие церковных ценностей и провоцирование раскола внутри Русской Церкви. Эти события, беспрецедентные для русской церковной истории, нуждаются в осмыслении, поскольку мы живем в цивилизации, для которой эти мероприятия — пройденный и усвоенный опыт, который в различных вариациях повторялся. Мы и сейчас, в последние три с половиной года, а на самом деле — уже почти три десятилетия, видим в чем-то схожую политику властей на Украине (речь идет только о политике в отношении Церкви), когда именно властями провоцируется раскол, который потом используется в идеологии и международных делах. Думается, что обсуждение этих событий представляет не просто интерес, а насущную необходимость, поскольку после 1922 г. мы живем в реалиях в целом как минимум безрелигиозного общества, которое оценивает начальную советскую политику, в том числе и религиозную, совершенно не так, как люди Церкви.
Итак, мой первый вопрос: Была ли политика изъятия церковных ценностей шоком для Церкви, или Церковь была к этому уже более или менее морально или даже организационно готова?
Свящ. Александр Мазырин: На рубеже 1917–1918 гг. шоком для Русской Церкви стало даже еще не собственно изъятие ее ценностей, а лишь принятие законодательства, которое делало таковое возможным. Хорошо известен ответ Всероссийского Поместного Собора на ленинский декрет об отделении Церкви от государства. Собор незамедлительно определил, что этот акт «представляет собою под видом закона о свободе совести злостное покушение на весь строй жизни Православной Церкви и акт открытого против нее гонения… Всякое участие как в издании сего враждебного Церкви узаконения, так и в попытках провести его в жизнь несовместимо с принадлежностью к Православной Церкви и навлекает на виновных кары вплоть до отлучения от Церкви» (Деяния, 72).
Соборным определением «О мероприятиях, вызываемых происходящим гонением на Православную Церковь», принятым 18 апреля 1918 г., особо подчеркивалось, что «никто, кроме Священного Собора и уполномоченной им церковной власти, не имеет права распоряжаться церковными делами и церковным имуществом, а тем более такого права не имеют люди, не исповедующие даже христианской веры или же открыто заявляющие себя неверующими в Бога» (Собрание определений, 1994, вып. 3, 57). А 12 сентября Собор принял определение, подчеркивавшее, что «на каждом православном христианине… лежит долг всеми доступными для него и не противными духу учения Христова средствами защищать церковные святыни от кощунственного захвата и поругания». Участие православных в изъятии святых храмов, часовен и священных предметов возбранялось под страхом церковного отлучения.
В то же время Собор отметил, что защищает именно святыни, а не материальные ценности. В случае, если какая-то община православных лишалась храма и его святынь, она могла с благословения епархиального архиерея начать совершать богослужения в любом другом приличествующем помещении, хотя бы и в частном доме, используя при этом самые простые богослужебные предметы, «да будет ведомо всем, что Церковь Православная дорожит своими святынями по их внутреннему значению, а не ради материальной ценности, и что насилия и гонения бессильны отнять у нее главное сокровище — святую веру, залог ее вечного торжества, ибо „сия есть победа, победившая мир, вера наша“ (1 Ин 5:4)» (Собрание определений, 1994, вып. 4, 28–30).
Прот. Георгий Митрофанов: Конечно, у руководства Русской Православной Церкви не могла не вызвать шок вся религиозная политика большевистского режима, ибо церковная иерархия состояла из людей, сформировавшихся в Российской империи, в которой, несмотря на все изъяны законодательства, власть развивалась в парадигме правового государства. При этом не столько законотворческая деятельность коммунистического государства, которая изначально не удосуживалась исполнять даже им принимавшиеся законы, сколько практическая политика, подчиненная идеологической или прагматической конъюнктуре, должна была произвести на св. патр. Тихона и его сподвижников поистине ошеломляющее впечатление. Основной формой этой политики были пропагандистско-репрессивные кампании против Православной Церкви, часто не предусматривавшиеся даже самим советским законодательством.
Первой такой кампанией стала начавшаяся в феврале 1919 г. кампания вскрытия мощей, к которой церковная иерархия оказалась совершенно не готова. Об этом выразительно свидетельствовал появившийся на другой день после обнародованного 16 февраля 1919 г. постановления наркомюста об организованном вскрытии мощей очевидно запоздалый указ патр. Тихона епархиальным архиереям об «устранении поводов к глумлению и соблазну в отношении святых мощей… во всех случаях, когда и где это признано будет необходимым и возможным». Этот указ активно использовался властями для обоснования репрессий против представителей духовенства, которые во исполнение указа Патриарха стали вскрывать раки с мощами святых без участия представителей власти, дабы устранить поводы для обвинения большевиками Православной Церкви в фальсификации мощей святых. Для Православной Церкви эта кампания имела чрезвычайно тяжелые последствия как с точки зрения проведения большевистским режимом репрессий против духовенства и активных мирян, так и с точки зрения репутационных потерь, особенно среди приверженного полуязыческому ритуализму крестьянского населения.
То же самое следует сказать и о кампании изъятия церковных ценностей, которая была еще более изощренно продумана и ставила перед собой гораздо более пространный перечень задач по разрушению церковной жизни, чем кампания вскрытия мощей 1919 г. Послание патр. Тихона о помощи голодающим и изъятии церковных ценностей от 28 февраля 1922 г., появившееся через несколько дней после постановления ВЦИК от 23 февраля 1922 г., которое стало сигналом к развертыванию уже готовившейся кампании не столько изъятия церковных ценностей, сколько массовых репрессий против духовенства, свидетельствовало об отсутствии у патр. Тихона и его ближайших сподвижников представления об истинных целях и задачах политики властей в это время.
И. В. Петров: Я, как и о. Александр, считаю, что для Церкви политика изъятия ценностей не была неожиданностью в полном смысле этого слова. После волны самосудов, репрессий периода Гражданской войны она морально была готова к подобного рода мерам. Другое дело, что проведение изъятия в период, когда Православная Церковь сама начала проводить политику спасения голодающих, повергло многих духовных лиц и верующих в шок. Очередной неоправданной жесткости, «похабной» газетной кампании и предательства многих собратьев в рясах ждали далеко не все пастыри.
Диак. Сергий Кульпинов: Насколько можно судить, например, по Сибири, такая политика не была шоком для церковных структур. Уже в феврале-марте 1922 г. на епархиальном уровне говорили о возможности изъятий и, в целом, данный процесс скорее поддерживался, если судить об изъятии предметов, не имеющих богослужебного назначения. В частности, такую ситуацию можно наблюдать, опираясь на материалы, связанные с положением Иркутской и Томской епархий в 1922 г. Иркутский архиепископ Анатолий (Каменский) в первой половине февраля 1922 г. указывал на то, что необходимо добровольно выдавать церковные ценности, но объем помощи голодающим должен решаться не на епархиальном уровне, а самостоятельно приходом, как фактически юридическим лицом, поскольку договоры о пользовании культовым имуществом заключались именно на приходском уровне. С 6 по 19 февраля 1922 г. в Иркутской епархии был проведен сбор средств для помощи голодающим, однако эта помощь в советской печати признавалась недостаточной (Шульган, 1922; Суд над архиепископом, 1922).
Иными словами, предположения о том, что сбор средств неминуем и, вполне вероятно, он будет осуществляться принудительно, в Сибири имели место на уровне архиереев. Вместе с тем нельзя говорить о том, что церковные структуры были институционально готовы к кампании. Учитывая тот факт, что очень часто документы не были подготовлены должным образом и духовенство обвинялось в сокрытии ценностей фактически только по той причине, что не все ценности попросту были вовремя учтены1, следует полагать, что никакой серьезной подготовки к возможному систематическому изъятию ценностей не предполагалось. Вместе с тем, учитывая развитие событий, можно предполагать, что это было большой оплошностью как общин, так и епархий.
Свящ. Александр Мазырин: Таким образом, видно, что Церковь прекрасно осознавала смысл ликвидационной политики большевиков и реагировала на нее весьма остро, но понимала, что ее протест не остановит безбожников, а потому готовилась к существованию в новых условиях. Однако в полной мере подготовиться к большевистскому натиску, последовавшему в 1922 г., она не могла.
Прот. Константин Костромин: Когда события всасывают в свой водоворот, трудно оценить происходящее трезво и безошибочно выработать единственно правильную линию поведения. Задним числом многое становится значительно понятнее. Глядя из начала ХIХ в.: можно ли было избежать такой политики Ленина и Троцкого? Наверное, не в целом, а каких-то наиболее важных ее аспектов?
Свящ. Александр Мазырин: Избежать антирелигиозной политики Ленина-Троцкого можно было, только вообще не допустив этих деятелей до власти в России. Большевизм был одушевлен пафосом богоборчества. Можно вспомнить печально известные слова Ленина из его письма Горькому еще в 1913 г. о том, что «всякая религиозная идея… есть невыразимейшая мерзость… это — самая опасная мерзость, самая гнусная „зараза“» (Два письма, 1929, 81–82). Понятно, что, дорвавшись до власти, одержимый лидер РКП(б) не мог не инспирировать полномасштабного гонения на Православную Российскую Церковь. Трагическая ситуация 1922 г. облегчала богоборцам их дело. Как писал (точнее, надиктовывал) Ленин в ныне широко известном письме членам Политбюро, «для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления» (Новые документы, 1990, 190–195). Предотвратить кровавый натиск большевиков Церковь возможности не имела.
И. В. Петров: В целом на этот вопрос следует ответить отрицательно. 1922 г. был годом окончательной победы большевиков в Гражданской войне. Православная Церковь была последним ее серьезным врагом, ударить по которому было можно в условиях голода. Сопротивление кампании по изъятию ценностей в ряде городов, в том числе сопротивление представителей пролетариата, как в Шуе, Москве и Петрограде, показало опасность решения религиозного вопроса единовременно. Однако смена тактики, разделение духовенства и поиск наиболее лояльных власти ее членов, в особенности среди епископата, абсолютно оправдала себя. События 1927 г. показали первые плоды изменения подхода к борьбе с Церковью. Несмотря на то, что многие граждане СССР считали себя православными, они не были готовы к активному сопротивлению, становились пассивными наблюдателями закрытия храмов и уничтожения духовенства. Такого крупного сопротивления, как в 1922 г., уже, к сожалению, не будет.
Диак. Сергий Кульпинов: У меня несколько иное мнение. Сегодня совершенно очевидным представляется, что кампания по изъятию церковных ценностей как на всероссийском, так и на региональном уровне имела две основных цели. Первая и, собственно, декларируемая — это сбор средств для помощи голодающим. Вторая, официально не провозглашавшаяся, но, вероятно, даже куда более важная — это слом Православной Церкви как одной из оставшихся крупных сил потенциально (а в некоторых случаях и фактически) оппозиционных советской власти. Соответственно, предполагая возможно иные исходы событий 1922 г., нужно четко ориентироваться именно на эти две цели, которые были выдвинуты советской властью.
Если мы говорим о сборе средств, то здесь нужно понимать, что финансовый потенциал Православной Церкви был явно переоценен и, если бы у советской власти было время и возможности для более детальной оценки реального финансового положения православных приходов и епархий, то, возможно, таких серьезных изъятий можно было бы избежать, поскольку сам процесс изъятия оказался достаточно затратным и, фактически, такой способ получения средств оказался для государства «слишком дорогим». Но, как уже было сказано выше, сбор средств был только одной из предполагаемых целей кампании.
Если говорить о политическом сломе Православной Церкви, то он представляется к 1922 г. вполне логичным. К этому моменту уже было подавлено большинство внешних угроз советской власти (оставался очаг белого сопротивления на Дальнем Востоке, но для Советской России он уже не виделся серьезной угрозой, активные военные действия против так называемого «Черного буфера» вели, преимущественно, войска формально независимой Дальневосточной республики), было подавлено и партизанское движение, как в Центральной России (Тамбовское восстание), так и в Западной Сибири (так называемая «Сибирская Вандея»). Соответственно, советская власть взялась за борьбу с крупными внутренними врагами, в качестве которых позиционировались партия эсеров и Православная Церковь. Собственно, процессы над эсерами и православным духовенством шли практически параллельно (ГАКК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 79. Л. 5). В советской печати весны 1922 г. даже подчеркивалось идеологическое родство между эсерами и Православной Церковью (Вместе, 1922; Контрреволюция, 1922).
Представляется логичным в этой ситуации, с одной стороны, что, если бы не было кампании по изъятию церковных ценностей, нашелся бы иной повод для массовых арестов православного духовенства и иерархии, тем более, что многие епископы и без того запятнали себя в глазах новой власти сотрудничеством с белыми во время Гражданской войны и обвинялись также в поддержке народных восстаний начала 1920-х, так называемого бандитизма. Если говорить о Сибири, то, например, в контрреволюции во время процессов по делам о сопротивлении изъятию церковных ценностей обвинялись иркутский архиепископ Анатолий (Каменский)2 и томский епископ Виктор (Богоявленский)3. Иными словами, если бы не кампания, то те же архиереи могли быть привлечены к суду под предлогом контрреволюционной позиции в период Гражданской войны или уже после нее.
С другой стороны, факты сопротивления изъятию церковных ценностей, как идеологического, так и физического характера, только больше убеждали представителей советской власти в контрреволюционности церковных структур и отдельного духовенства. Можно предполагать, что если бы этого сопротивления не было, то число подвергшихся гонениям священнослужителей и мирян было бы определенно меньше. Советская власть в этот период еще была заинтересована в лояльности со стороны духовенства и верующих, поэтому те священнослужители, которые заявляли о лояльности, не преследовались и, до определенной степени, воспринимались как союзники. В некоторых случаях им готовы были простить даже контрреволюционное прошлое. Ярким примером можно считать иркутского протоиерея М. А. Фивейского (впоследствии обновленческого «архиепископа»), который в 1919 г. благословлял дружины Святого креста [Цыремпилова, 2009, 51], а летом 1922 г. заявил о своей полной лояльности новой власти и стал активным обновленцем (ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 252. Л. 34). Примечательно, что никто не вспоминал о контрреволюционном прошлом протоиерея, более того, в советской печати лета 1922 г. он показывался «мучеником», пострадавшим от «контрреволюционного» архиеп. Анатолия (Каменского) (Суд над архиепископом, 1922). Аналогично почти полностью было забыто контрреволюционное прошлое перешедшего в обновленчество «епископа» Александра Александровича Сидоровского, хотя о нем в советской печати и подшучивали на тему снятия монашества, имевшего место в 1920 г. (Старый знакомый, 1922).
В целом, можно сказать, что кампании в том виде, в котором она была развернута, можно было бы избежать, если бы у советского правительства было достаточно возможностей для оценки ее финансовой несостоятельности. Вместе с тем нельзя было избежать именно преследований Православной Церкви, хотя, повторю, в случае большей лояльности со стороны рядового духовенства, возможно, число жертв гонений начала 1920-х гг. было бы значительно меньшим.
Прот. Георгий Митрофанов: Я во многом согласен с тем, что сказал о. Сергий. Однако позволю себе добавить, что не только изъятие церковных ценностей, но и пропагандистская дискредитация руководства Церкви обвинениями в его желании «задушить костлявой рукой голода молодую советскую республику», а также стремление не столько сломать Православную Церковь, сколько подчинить ее себе и использовать в качестве идеологической «обслуги» путем приведения к высшей церковной власти представителей обновленцев определяли стратегический замысел большевистской политики в период кампании по изъятию церковных ценностей, которой руководил тогда именно Л. Троцкий.
Прот. Константин Костромин: Вспоминали ли про подобные прецеденты — антирелигиозную политику властей и изъятие или уничтожение церковных ценностей и святынь (прежде всего — времен Французской революции) церковные деятели или гражданские власти, или им было не до многосторонней рефлексии?
Диак. Сергий Кульпинов: Мне хорошо знакомы материалы по настроениям церковных людей Сибири. Рефлексия верующих была, скорее, не в историческом, а в апокалиптическом контексте. Иными словами, сталкиваясь с гонениями со стороны советской власти, ряд верующих говорили о «последних временах» и скором пришествии «антихриста». Эти настроения поддерживались и некоторыми клириками. Причем нужно сказать, что это давало оппонентам Церкви, сначала государственным структурам, а затем и обновленцам, повод обвинять верующих и часть духовенства в «кликушестве» и «мракобесии» (Гражданин, 1922; Сафронов, 1922). Каких-либо отсылок к положению времен Французской революции лично мне не встречалось ни в церковных (Патриаршей Церкви и обновленческих), ни в государственных документах и официальной печати.
Исторические параллели проводились государственными органами и обновленцами, активно включившимися в процесс изъятия церковных ценностей в Сибири сразу после учреждения Томского временного епархиального церковного управления (ГАТО. Ф. Р-173. Оп. 1. Д. 493. Л. 72), более в смысле противопоставления монархической и советской власти. Постоянно подчеркивалось, что именно советская власть освободила духовенство от того гнета, в котором оно пребывало в эпоху монархии (ГАТО. Ф. Р-173. Оп. 1. Д. 493. Л. 72; Путь, 1922; Гражданин, 1922; К выступлению, 1922; Раскол церкви, 1922). Этот тезис проводился сибирскими обновленцами и после окончания кампании по изъятию церковных ценностей, в частности в 1923 г. (ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 11. Л. 1, 38). Примечательно здесь, что в контексте исторической рефлексии, противопоставляя монархию и советскую власть, некоторые обновленческие иерархи также обращались к эсхатологическим мотивам, но иначе, нежели противники изъятия церковным ценностей. Например, в своем послании от 10 октября 1923 г. иркутский обновленческий «архиепископ» Василий Дмитриевич Виноградов, говоря о порочности царской власти и законности власти советской, ссылался на пророчества прп. Серафима Саровского (ГАИО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 11. Л. 1 об.).
Вполне логично было бы полагать, что апологеты изъятия церковных ценностей могли бы опираться на примеры из церковной истории, в частности на продажу всех церковных ценностей епископом Карфагенской церкви Деогратием около 455 г. для выкупа пленных, захваченных вандальским королем Гензерихом во время разграбления Рима (Робертсон, 1890, 455). Однако этот пример в Сибири практически не фигурировал, хотя и был, надо полагать, известен.
Нужно сказать, что в гораздо большей степени обновленцы прибегали не к историческим примерам, а к евангельским, подчеркивая, что выдача церковного золота — это проявление евангельской любви. В частности, возглавлявший Сибирское церковное управление свящ. П. Ф. Блинов, впоследствии обновленческий Сибирский «митрополит», летом 1922 г. неоднократно говорил о том, что помощь голодающим со стороны Церкви — это помощь голодающему Христу (Православная церковь, 1922; В обновленной церкви, 1922).
Прот. Константин Костромин: Фактически этот разговор приводит нас к обсуждению проблемы «первобытного коммунизма», идеи, которую развивал К. Каутский, резонирующей в поисках А. Луначарским «христианского социализма», которые ощущаются в материалах известного его диспута с «митрополитом» А. И. Введенским. Но это будет уход в сторону от основной темы обсуждения.
Насколько я понимаю, некоторые исторические параллели к происходящему могли всплывать, хотя и не специально, у участников событий 1922–1923 гг. Но все равно это субъективное восприятие людей той эпохи. А на взгляд историка ХХI в., можно ли говорить о параллелях именно исторических, а не только рефлексивных?
И. В. Петров: Действительно, в политике французских властей в 1789 г. есть схожие черты. Это и постепенная дехристианизация Франции, и принятый декрет о секуляризации церковных земель. Принятое в 1790 г. решение об упразднении термина «церковное имущество» и вовсе схоже с большевистской политикой. Удар по монашеству, а также перевод духовенства на государственную службу сильно ударил по материальному положению духовенства и по его положению во Франции в целом. Определенные схожие черты можно увидеть и между поддержкой католического духовенства, готового принести гражданскую присягу, и репрессивными мерами по отношению к противникам данной реформы. Схожи и меры по введению нового календаря, правда, взамен григорианского. Как и в первые годы советской власти, наблюдалось объяснение политики притеснения Церкви и верующих сугубо «научными» причинами.
Разница же кроется в том, что у большевиков уже было более проработанное политическое учение, на которое они опирались. К тому же поражение антибольшевистских сил привело к фактическому уничтожению церковно-государственных отношений в России, существовавших до 1917 г.
Прот. Георгий Митрофанов: Хотя некоторые большевистские руководители и склонны были порой проводить определенные параллели между собой и именно якобинцами, ситуации в революционной Франции и революционной России весьма разительно отличались друг от друга, что было обусловлено прежде всего очевидной церковно-политической индифферентностью русского крестьянства, особенно в сравнении с крестьянством французским. Во Франции после трех лет революции крестьянство еще почти семь лет, с 1793 по 1800 гг., вело борьбу против революционного правительства под лозунгом «За Бога и короля», и в 1801 г. Французская республика в лице своего первого консула Наполеона Бонапарта была вынуждена подписать конкордат с Римом, а сам первый консул через три года был коронован в императоры Франции папой Римским Пием VII. В то время как русское крестьянство после полутора лет сопротивления большевикам в 1921–1922 гг. под лозунгом «За Советы без коммунистов» подчинилось в начале 1930-х гг. колхозному рабству и в подавляющем своем большинстве согласилось с почти полным уничтожением Православной Церкви в России.
Прот. Константин Костромин: А как вам кажется, насколько возможно в той или иной мере повторение такого сценария в нашей стране? Имею в виду сочетание атеистической политики, изъятия ценностей и попытки раскола Церкви. Или по каким-то причинам это невозможно?
Диак. Сергий Кульпинов: Следует полагать, что повторение подобного сценария вполне возможно в случае радикальной смены власти в современной России. Например, в случае прихода к власти условных «либеральных сил» возможны попытки поставления во главе Церкви, как на общероссийском, так и на региональном уровнях, наиболее лояльных новой власти представителей духовенства. С другой стороны, власть будет при таком сценарии заинтересована в смещении с должностей и удалении из церковного пространства иерархов и клириков, которые, с ее точки зрения, компрометировали себя активным сотрудничеством с предыдущей властью. Подобное вмешательство во внутренние дела Церкви может привести к новому расколу, который, в силу вышесказанного, косвенно будет инспирирован новой российской властью.
Что касается изъятия ценностей, то оно также вероятно в том случае, если новая власть в России столкнется с острой нехваткой средств, поскольку церковные богатства по-прежнему остаются сильно преувеличенными в глазах общества, причем преувеличенная оценка постоянно подчеркивается в СМИ, в особенности — негативно настроенных по отношению к Церкви. Следует полагать, что в случае радикальной смены власти в России у Церкви, по крайней мере, будет изъято то имущество и те средства, которые были получены от государства, в том числе путем грантовой поддержки.
Что касается атеистической политики, на мой взгляд, принципиально не будет иметь значения, станет ли новая власть позиционировать себя в качестве религиозной или атеистической. Процент фактических атеистов в современной России довольно высок, и в особенности в среде молодежи, поэтому возможные гонения могут вызвать в ряде слоев населения одобрение и поддержку, вне зависимости от того, будут ли они проводиться под предлогом «очищения и освобождения Церкви» или под сугубо атеистическими лозунгами.
И. В. Петров: В данном вопросе кроется несколько тем. Я тоже думаю, что анти-церковная политика властей и поддержка ее населением возможна. В случае перехода власти к политике ограничения «церковной собственности» и критики Православной Церкви в целом, далеко не все называющие себя православными будут готовы защищать церковные права. Среди высокообразованного населения России таких людей совсем немного. Другое дело, что на поддержку раскола в Церкви власть вряд ли пойдет. Разделение пойдет, скорее, само собой, как в 1927 г. после декларации митр. Сергия.
Прот. Георгий Митрофанов: Общественно-политическая и мировоззренческая позиция, которую занимает в настоящее время руководство Русской Православной
Церкви, не дает оснований предполагать повторение подобного рода гонений со стороны существующей ныне в России государственной власти. При этом перспектива смены режима власти в современной России, во всяком случае по внутриполитическим причинам, пока не представляется актуальной. Поэтому возможность повторения сценария гонений, о которой говорит о. Константин, мне не кажется сколь бы то ни было вероятной в обозримом будущем.
А. В. Петров: Я бы хотел привлечь внимание к одному весьма важному, на мой взгляд, обстоятельству, связанному с кампанией по «изъятию церковных ценностей» и другими подобными мероприятиями большевиков, — к ее специфическим антирусской и антигуманистической составляющим.
Некогда Вадим Валерианович Кожинов выдвинул положение о том, что революция 1917 г. состояла из разных векторов и разнонаправленных стремлений. Была компонента «революция для России» и компонента «Россия для революции». А Игорь Яковлевич Фроянов, развивая кожиновскую мысль, справедливо указал и на третью компоненту — «революция против России».
Кампания, которую мы сейчас обсуждаем, равно как многое подобное ей, явно относится к этой третьей компоненте. Не в одном коммунистическом атеизме здесь дело. Обычный атеист совершенно равнодушен к религиозной тематике, он не верит в Бога, и всё, он словно евнух в магометанском гареме: «он тут; он видит, равнодушный, прелестниц обнажённых рой». А в данном случае мы имеем дело не столько с атеизмом, сколько с чем-то иным, если продолжить наше сравнение далее — с какими-то агрессивными и уродливо-болезненными женоненавистниками: с богоборчеством.
Никогда не поверю в то, что люди, изымавшие «церковные ценности» якобы для спасения голодающих, взрывавшие храм Христа Спасителя и другие церкви, не понимали, что такое для России и русского народа православие и Церковь, не понимали, что они глумятся над русским началом как таковым!
После неприятия Флорентийской унии Русская Церковь признала верховенство национальной государственной власти. Но это только одна сторона «медали». А другая ее сторона, которую не желали и не желают видеть «либералы», состоит в том, что и государство как бы «воцерковилось», приняло на себя «священную миссию», церковные задачи, установило для себя в качестве нормы и правила действия по христианским принципам, взяло на себя функцию защиты православия, стало мыслить себя «носителем религии». Это — восточнохристианская модель церковногосударственных отношений, в наиболее совершенной своей редакции именуемая «симфонией». Россию не отделить от православия и Церкви. Это нерасторжимое единство — плод русской истории. Великие деятели нашей культуры, субъективно даже отдалявшиеся от православия и Церкви, должны были самоопределяться под их влиянием и постоянно находиться под ним.
Атака на Русскую Церковь есть нападение на саму Россию! И обратно: атака на Россию есть нападение на Русскую Церковь! Так было всегда. Между вселенским призывом христианства и национальным началом нет противоречия. Общечеловеческое соотносится с национальным, как любовь и музыка: «Из наслаждений жизни / Одной любви муз ы ка уступает; / Но и любовь мелодия»… Атака на православие и Церковь в русской истории всегда оборачивалась нападением на человеколюбие как таковое, оказывалась покушением на само человеческое достоинство, ибо в основе гуманизма лежит христианское понимание совести!
Вообще говоря, единственное Евангелие христианства — это Евангелие любви и милосердия. «Именно любовь, — ни вера, ни догматика, ни мистика, ни аскетизм, ни пост, ни длинные моления не составляют истинного облика христианина. Все теряет силу, если не будет основного — любви к человеку» (Лука Войно-Ясенецкий).
Личностное понимание Абсолюта на все 100% выражено только в христианстве. Только христианство через центральный момент своей истории — Боговоплоще-ние — дает людям идеал способной к любви гармоничной личности, вооружает представлением о ближнем, отличается подлинным человеколюбием…
Список литературы Изъятие церковных ценностей в советской России - шок или ожидание? Материалы круглого стола
- ГАИО — Государственный архив Иркутской области. Ф. 485. Оп. 2. Д. 11, 252.
- ГАКК — Государственный архив Красноярского края. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 79.
- ГАТО — Государственный архив Томской области. Ф. Р-173. Оп. 1. Д. 493.
- В обновленной церкви (1922) — В обновленной церкви // Красное знамя. 1922. 20 июня.
- Вместе (1922) — Вместе с попами и патриархом Тихоном // Власть труда. 1922. 25 мая.
- Гражданин (1922) — Гражданин. Единственно правильный путь // Красное знамя. 1922. 3 июня.
- Два письма (1929) — Два письма А. М. Горькому // Ленин В.И. Сочинения. Т. 17: 19131914. М.; Л., 1929. С. 81-82.
- Деяния (1996) — Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 19171918 гг.: в 11т. М., 1996. Т.6.
- Фроянов — Игорь Фроянов: Революция для России // Виперсон. http://viperson.ru/ articles/igor-froyanov-revolyutsiya-dlya-rossii (дата обращения: 05.09.2022).
- Изъятие ценностей (1922) — Изъятие ценностей в Томском уезде // Красное знамя. 1922. 1 июня.
- К выступлению (1922) — К выступлению иркутского духовенства // Власть труда. 1922. 21 июля.
- Контрреволюция (1922) — Контрреволюция под цирковным4 флагом, Томские пастыри перед судом // Красное знамя. 1922. 2 июня.
- Лука Войно-Ясенецкий — Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Наука и религия // https:// royallib.eom/read/voynoyasenetskiy_cvyatitel_luka/nauka_i_religiya.html#133163 (дата обращения: 05.09.2022).
- Новые документы (1990) — Новые документы В.И. Ленина (1920-1922гг.) / Публ. Ю. Ахапкина, И. Китаева, В. Степанова // Известия ЦК КПСС. 1990. № 4. С. 190-195.
- Православная церковь (1922) — Православная церковь на новом пути. Обращение священника Блинова ко всем христианам г. Томска // Красное знамя. 1922. 10 июня.
- Путь (1922) — Путь, по которому шла церковь. Чем была церковь при царизме // Красное знамя. 1922. 3 июня.
- Раскол церкви (1922) — Раскол церкви (доклад тов. Ржанова) // Власть труда. 1922. 17 августа.
- Робертсон (1890) — Робертсон Д. С. История Христианской Церкви. От апостольского века до наших дней. СПб., 1890. Т. 1.
- Сафронов (1922) — Сафронов А. Боятся правды // Красное знамя. 1922. 2 июня.
- Сдавайте утаенное! (1922) — Сдавайте утаенное! // Красное знамя. 1922. 3 июня.
- Собрание определений, вып. 3 (1994) — Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Вып.1-4. М., 1994. Вып. 3.
- Собрание определений, вып. 4 (1994) — Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Вып.1-4. М., 1994. Вып. 4.
- Старый знакомый (1922) — Старый знакомый // Власть труда. 1922. 15 сентября.
- Суд над архиепископом (1922) — Суд над архиепископом Анатолием и его приспешниками // Власть труда. 1922. 10 июля.
- Обвинительный акт (1922) — Суд над архиепископом Анатолием и его приспешниками. Обвинительный акт // Власть труда. 1922. 8 июля.
- Цыремпилова (2009) — Цыремпилова И.С. Русская Православная церковь и государство: история взаимоотношений в 1917-1930-е гг. (на материалах Байкальского региона). Улан-Удэ, 2009.
- Шульган (1922) — Шульган П. и др. Трудящиеся о церковных ценностях. (Ответы епископу Анатолию) // Власть труда. 1922. 15 марта.