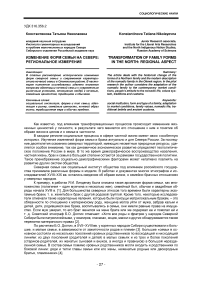Изменение форм семьи на севере: региональное измерение
Автор: Константинова Татьяна Николаевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 7, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрено историческое изменение форм северной семьи и современная характеристика кочевой семьи в Оленекском районе. В настоящем пилотном исследовании уделено внимание вопросам адаптации кочевой семьи к современным рыночным условиям, отношения людей к кочевью, семейным ценностям, традициям и обычаям.
Социальный институт, форма и тип семьи, адаптация к рынку, семейные ценности, кочевой образ жизни, традиционная вера и обычаи предков
Короткий адрес: https://sciup.org/14936860
IDR: 14936860 | УДК: 316.356.2
Текст научной статьи Изменение форм семьи на севере: региональное измерение
Как известно, под влиянием трансформационных процессов происходит изменение жизненных ценностей у личности, в результате чего меняется его отношение к ним и понятие об образе жизни в целом и о семье в частности.
В каждом регионе социальные процессы в сфере частной жизни имеют свою «особенную историю». Изучение изменений форм семьи и брака актуально и для Севера России. За последние десятилетия освоению северных территорий, имеющих несметные природные ресурсы, уделяется особое внимание, так как динамичное экономическое развитие определяет геополитическое положение России в мире. В то же время демографическое воспроизводство населения, частная жизнь, брак и семья в большей степени остаются за рамками государственной политики. Такое пренебрежение социально-демографическими факторами может негативно повлиять на развитие других систем общества.
Северная семья как социальный институт общества под влиянием российского государства принимала различные формы и модели. В работах и документах многих этнографов и исследователей XVIII–XIX вв. остались сведения об образе жизни, о семейно-брачных отношениях у северных народов.
К примеру, в работах Я.И. Линденау была описана такая архаичная форма семьи, как многоженство (полигиния – один мужчина и несколько жен), семейный быт, обычаи и свадебные обряды начала XVIII в. [1]. Для большинства северных этносов того времени были характерны экзогамные браки, т. е. женитьба и брак с другой родовой группой. Кроме того, некоторые исследователи отмечали такие характерные явления, которые были присущи матрилокальным бракам, – это обязанности по отношению к материнскому роду, женщина могла уйти от мужа, забрав калым и детей, дети, родившиеся вне брака, воспитывались в семье, они имели равные права на имущество. Если муж умирал, то его брат женился на жене брата или же содержал ее и помогал ей и т. д. Советский этнограф Б.О. Долгих отмечает: «Хотя все роды и фратрии у народов Северной Сибири были патрилинейными, у юкагиров, нганасан, энцев, манси и других обнаруживаются также пережитки материнского права» [2].
По расчетам Б.О. Долгих, в XVII–XVIII вв. у коренных народов Сибири существовали и большие, и малые семьи, в зависимости от зажиточности родов и племен [3]. Большие «семьи в основном состояли из нескольких поколений кровных родственников по восходящей и нисходящей линиям: из двух поколений (родителей и детей) в малых семьях и из трех и более поколений (стариков-родителей, их женатых сыновей и внуков, а иногда и правнуков) в большой неразделенной семье. В состав семьи помимо кровных родственников могли входить и родственники по боковой линии: дяди и тетки главы семьи или его жены, неженатые родные или двоюродные братья, племянники» [4].
Однако уже к концу XIX – началу ХХ вв., по поводу семьи и брака В. Иохельсон замечает, что «семейные отношения юкагиров утратили свой первобытный характер и в значительной степени находятся под влиянием русской цивилизации». В то же время он указывает на взаимовлияние традиций и обычаев брачности у тунгусов и юкагиров [5].
Значительную модернизацию в семейно-брачные отношения внесла христианизация населения. Со временем под ее влиянием многоженство как социальное явление себя изжило, а социальная группа женщины стала ниже мужской. Появились большие патриархальные семьи, где безоговорочно главным был отец семейства.
Таким образом, постепенно родоплеменной кочевой образ жизни сменился на оседлый патриархальный феодализм , родо-племенная община сменилась на соседско-территориальную, внедрилась новая форма внутрисемейных и родовых отношений. Но все же в труднодоступных и окраинных местах некоторые роды сохраняли свой кочевой образ жизни, родовые отношения, традиции и обычаи.
Коренную трансформацию в жизнедеятельность коренных северных аборигенов внесло советское правительство, приняв в 30-е гг. ХХ в. «национальную политику о некапиталистическом пути развития малых народов, минуя феодальный период, к социализму» [6]. За короткий период на всем Севере для культурного развития «отсталых северных народов» их перевели на оседлость. В основном это проявилось в создании коллективных сельскохозяйственных хозяйств, где почти поголовно все люди: и середняки, и бедные, и безоленные – стали членами и пастухами колхозов. Детей оленеводов для обучения в школах определяли в интернат, где им прививались совершенно новые представления о мире и образе жизни. С одной стороны, эта политика подняла северное общество малых этносов на более высокую ступень развития. Повысилась производительность труда, изменились общественные отношения, женщины уравнялись в правах с мужчинами, и сократилась детская и женская смертность. С другой стороны, государство взяло на себя функцию воспитания и обучения детей, что в свою очередь отрицательно сказалось на семейной и традиционной преемственности и послужило причиной демографического упадка и без того малых по количеству народностей.
В результате «советского воспитания» многие воспитанники интернатов не только не смогли вернуться к своим родителям, но и не смогли создать свою семью и не нашли свое место в обществе. В северном сообществе проявились такие негативные социальные явления, как безбрачие и маргинализм, и как следствие социальные болезни – туберкулез и алкоголизм. Таким образом, в сообществе северных народов можно отметить отличительные признаки изменений: утверждение новой системы ценностей, отличающийся от традиционного образ жизни, превращение кочевого общества в «оседлое», т. е. аграрное. Эти перемены естественным образом затрагивали все стороны жизни северных народов, в том числе семью и человека на личностном уровне, и непосредственно отражались на частной жизни, брачно-семейных отношениях и брачном поведении, отношении людей к вопросам жизни и продолжения рода и т. д.
К началу перестроечных процессов в конце ХХ в. демографы и интеллигенция коренных этносов забили тревогу о депопуляции в северном сообществе из-за уменьшения численности населения в местах их компактного проживания. Каково же современное положение северной семьи в нынешних меняющихся условиях?
Для Якутии, занимающей одну пятую часть страны, плотность населения составляет всего 0,3 чел. / 1 кв. км. Геополитическое положение республики характеризуется богатым природно-ресурсным потенциалом, отличается слабой освоенностью территорий, отсутствием транспортной инфраструктуры и дискомфортными условиями проживания в экстремальных климатических условиях.
В конце ХХ и начала ХХI вв. на территории Республики Саха (Якутия), как и по России в целом, обозначилась неоднозначная динамика в развитии таких демографических процессов, как миграция, рождаемость, смертность, разводимость и брачность, что впоследствии может повлиять на формирование семейной структуры населения. В регионе колебания численности населения непосредственно связаны с этапами промышленно-хозяйственного освоения его территории. Так, с 1959 по 1990 гг. рост численности населения связан с притоком рабочей силы из-за пределов республики. А с 1998 по 2000 гг. резкому оттоку населения способствовали распад Советского Союза и начало «перестройки», т. е. в эти годы в формировании населения Якутии основную роль сыграл миграционный фактор.
По сравнению с другими регионами РФ население Республики Саха немногочисленно, регион занимает 54-е место, численность населения на 1 января 2013 г. [7] составила 955,6 тыс. чел., в том числе в городах 620,5 тыс. чел. (64,9 %), в сельской местности – 335,1 тыс. чел. (35,1 %). Если сравнить с данными Всероссийской переписи населения 2002 г., то численность населения увеличилась на 1 % (т. е. на 9248 чел.). Естественный прирост в республике сохраня- ется за счет превышения числа родившихся над числом умерших. Традиционно в Якутии рождаемость была и до сих пор остается высокой. Уровень рождаемости сохраняется, благодаря брачности как одному из механизмов регулирования рождаемости. Другим механизмом является репродуктивное поведение, т. е. внебрачное рождение. В отличие от российского внебрачное рождение на Севере было всегда автономным поведением, о чем свидетельствуют исследования этнографов еще ХIХ в.
По статистическим данным, в 2010 г. число супружеских пар стало больше на 6 тыс., чем в 2002 г., и составило 206 тыс. (2002 г. – 200 тыс.), в то же время переписью было учтено 330 тыс. частных домохозяйств (в 2002 г. – 305 тыс.). Средний размер домохозяйства (среднее число членов домохозяйств) составляет 2,9 человека, что больше, чем в России (2,6 чел.) и Дальневосточном регионе (2,5 чел.). Домохозяйства из 5 и более человек составляют 13,9 % от общего числа (по России – 8,8 %, ДВО – 6,8 %).
Таким образом, в Республике Саха, по данным переписи населения, состав семьи незначительно уменьшился. В 1989 г. преобладала семья из 4 чел., в 2002 г. – из трех, а в 2010 г. – 2,9 чел.
Изменения численности населения в городских и сельских поселениях различны. С 2002 по 2010 гг. отмечается увеличение населения в городах и уменьшение в сельских районах за счет миграции сельского населения в города.
По мнению ведущих демографов, изменения состава семьи и численности населения обусловлены экономическими преобразованиями в стране и адаптацией семьи к этим условиям [8].
Для определения адаптационных стратегий северных семей в Якутии нами проведены пробные исследования в Оленекском эвенкийском национальном улусе (районе). Данный район расположен на северо-западе Якутии за Полярным кругом. Его территория 318,1 тыс. кв. км, составляет 10,1 % от всей территории республики и является самым крупным субъектом республики. Плотность населения – 0,01 чел. /кв. км. Численность населения района почти не колебалась. Так, в 2000 г. она составила 4100 чел., в 2010 г. – 4127 чел., в 2013 г. – 4050 чел.
Основу экономики района составляют традиционные отрасли хозяйствования коренного населения Севера – оленеводство, рыболовство и охотничий промысел, животноводство.
Для опроса нами были выбраны семьи, занимающиеся традиционными видами жизнедеятельности, т. е. семьи, ведущие кочевой образ жизни. Адаптация таких семей тем интересна, что, работая в сельском хозяйстве, они получают зарплату ниже прожиточного минимума. В опросе участвовали 29 семей, что составляет 40 % от общего числа семей, работающих в данной сфере, и на вопросы отвечали женщины, так как мужчины кочевали по маршрутам и до них никак невозможно было доехать.
Опрошенные относятся к следующим возрастным группам:
– от 21 до 30 лет – 13,8 % (или 4 чел.);
– от 31 до 40 лет – 10,3 % (3 чел.);
– от 41 до 50 лет – 34,5 % (10 чел.);
– от 51 и старше – 41,3 % (12 чел.).
Национальность: эвенкийки – 86,2 %, якутки – 13,8 %.
Брачное поведение, или вступление в брак, происходит в большинстве случаев (55,2 %) в возрасте от 20–25 лет, до 19 лет вышли замуж лишь 10,3 % респонденток, от 25 до 35 лет вступили в брак 27,6 % северянок и от 35 лет и старше – 6,9 % опрошенных. Из них в первый брак вступили 93,1 % и 82,8 % живут в браке более 10 лет. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в Оленекском национальном улусе учтено 1364 мужчины, из них в браке состояли 724 мужчины и никогда не состояли в браке 530 мужчин.
Тип семьи у большинства (55,2 %) коренного населения оказался нуклеарным (родители и дети). 31 % опрошенных проживают в большой семье (3 поколения и более). И одно поколение – родители – оказалось у 13,7 %. Данный нуклеарный тип семьи диктуется природными и экономическими условиями. В северных условиях «малолюдность» семьи мобильна и удобна при кочевье.
Семейные ценностные ориентации у северного народа оказались высокими. На вопрос «Насколько важна для Вас семья?» 69 % ответили «Очень важна» и 31 % «Скорее важна, чем друзья и работа». Однако распределение ответов на вопрос «Как, по вашему мнению, значимость семьи, состоящей из отца, матери и детей, в наши дни возрастает или, наоборот, снижается?» заставляет задумываться. Так, на этот вопрос получены следующие ответы: всего 31 % опрошенных ответил: «Да, в наше время преимущество такой семьи налицо»; 34,5 % респондентов отметили: «По-видимому, не всегда получается жить полной семьей»; 10,3 %: «Семья – помеха карьере и творчеству»; и 24,1 % ответить затруднились.
В своих мнениях сельчане практичны и выводы делают из реальной жизни. По статистике, в северных селах, соотношение мужчин и женщин очень быстро меняется с 36-летнего возраста. Смертность мужчин высокая по всему Северу. Причина смертности разная: это и алкоголизм, и отсутствие медицинской помощи, и несчастные случаи при кочевье, особенно в весеннее половодье и при сходе снега с гор. Половина семей в возрасте от 36 лет – это семьи вдов или разведенных. По данным переписи 2010 г., в Оленекском улусе из учтенных 1515 женщин 723 состоят в браке, 493 никогда не состояли в браке и 218 – вдовые женщины, тогда как вдовых мужчин зарегистрировано 59 человек.
В современной северной семье демократичность внутрисемейных отношений показывают ответы на вопрос «Кто глава семьи?». Так, мужа главой семьи признали 44,8 % аборигенок, совместно мужа и жену – 41,4 % респонденток, 10,3 % главой признали себя (женщины), и одна северянка затруднилась дать ответ. Большинство, а это 55,2 % респондентов, считают, что семейные проблемы обсуждают вместе, 20,7 % считают, что проблемы решает жена, на самотек пускают 13,8 % , и затруднились ответить10,3 % респондента.
Среди опрошенных преобладают многодетные семьи: 34,5 % – с 2–3 детьми до 18 лет, 10,3 % семей имеют детей от 4 и более, и 31 % с одним ребенком, у 24,1 % респондентов дети старше 18 лет.
Жилищные условия семьи нормальными указали 86,2 % респондента (частный собственный дом, без благоустройства), остальные 13,8 % живут с родственниками или арендуют жилье.
Влияние реформ на сельскую жизнь отрицательным признали 27,6 % аборигенок, нормальным и на возможность заработать самостоятельно указали 51,7 %, никак не повлияли на 13,8 %, и затруднились ответить – 6,9 % респондентов.
Материальный уровень своей семьи признали «вполне сносным, нормальным» 55,2 % аборигенок, плохим – «живем от зарплаты до зарплаты» – 41,4 % и хорошим – «живу в достатке» – 3,4 % респондента. При отсутствии денег услугами финансовых институтов пользуются только 20,7 % северян, большинство (65,5 %) берут в долг у родственников и 13,7 % продают продукцию собственного домашнего хозяйства (оленье мясо, пошив и т. д.). При этом к рыночным условиям «не совсем приспособились» – 44,8 %, «совершенно не приспособились» – 17,2 %, затруднились ответить – 6,9 %, и только 31 % северян приспособился.
Несмотря на материальные трудности, 17,2 % аборигенов уверены в завтрашнем дне, 69,0 % скорее уверены, чем нет, 10,3 % – скорее не уверены, чем да, и 3,4 % затруднились ответить. Поэтому, несмотря на материальные затруднения и неуверенность в завтрашнем дне, не удивляет оптимистичность большинства (62,1 %) северян и прагматичность (24,1 %). Пессимистами в трудных условиях оказались всего 3,4 %, и затруднились ответить 10,3 % респондента.
Для составления понимания адаптации кочевой северной семьи к современным условиям, необходимо определить отношение людей к своему образу жизни, деятельности, вере и традициям.
За последние десятилетия модернизационные процессы и технологические инновации, такие как цифровое телевидение, сотовая связь и Интернет, прочно вошли и в сельскую северную жизнь. И влияние данного фактора способствует изменению ценностных ориентаций во всех слоях населения. Анализ нашего обследования показывает, что отношение к кочевью у населения постепенно меняется. Традиционный образ жизни сохраняет свои положительные оценки у 17,2 % коренного населения, считающих, – что это единственный образ жизни, согласно которому жили их предки, и они сами живут и в будущем надеются, что так будут жить их дети. Этот вопрос задавался также и среди безработных мужчин в возрасте от 25 до 45 лет. И в настоящий момент 31 % опрошенных сельчан, у которых отсутствуют олени и которые живут оседло в поселениях, также выразили желание кочевать. 24,1 % кочевников ответили, что традиционный образ жизни – необходимость, иначе не выжить. Однако 10,3 % оленеводов сказали, что кочевой образ жизни очень тяжел и, если бы у них была нормальная пенсия или работа, они бы поселились в селах. 17,2 % сельчан категорично отрицательно относятся к кочеванию. Таким образом, в настоящее время традиционный образ жизни все еще выступает как единственный источник дохода. Отрицательная оценка своей жизнедеятельности коренными жителями позволяет делать вывод о неудовлетворенности социально-экономическими условиями на Севере и о перемене ценностей и стандартов жизни.
В Якутии сезонная охота, особенно весной во время прилета уток, волнует большинство мужского населения, в том числе и городских жителей. Однако, как показывает наш опрос, отношение к охоте также претерпевает изменения даже в селах. Так, на вопрос «Кроме оленеводства и животноводства, занимаетесь ли Вы охотой?» 24,1 % респондента ответили утвердительно; 31,05 % иногда охотятся; 44,8 % ответили отрицательно. Как нам кажется, такая ситуация сложилась из-за принятия закона РФ «Об охоте». По данному закону получение лицензий стало проблематичным и для кадровых охотников, не говоря уже о любителях-охотниках.
Становление рыночных отношений и либерализация всех сфер общества способствовали укреплению внутрисемейных отношений на основе традиционных верований и обычаев. Распределение ответов на вопрос «Какую веру исповедуете?» показало: в основном коренное население (55,2 %) придерживается традиционного верования своих предков; 17,2 % – православия,
20,7 % – другого, и атеистов оказалось 6,9 % северян. Далее, на вопрос «В повседневной работе (на охоте, в тайге) пользуетесь ли обычаями и традициями предков?» 72,4% ответили – да, всегда соблюдаю и пользуюсь; 17,2 % иногда, по возможности; 6,9 % затруднились ответить, и только 3,4 % не придерживаются традиций. Национальные традиции также проявляются в праздновании этнических праздников, таких как «Слет оленеводов» (другое название «Встреча солнца»), использование в быту национальных одежд, продуктов и продукции оленеводства и охотпромыслов. Приверженность этнокультурным традициям и духовным ценностям придает устойчивость семьям и способствует сохранению этнической целостности, что весьма актуально для малочисленных народов Севера.
Таким образом, анализ анкетного опроса показывает, что в северных улусах тип семьи у кочевых народов традиционно является нуклеарным (родители и дети). Нуклеарность семьи и раньше отмечалась у первых исследователей Восточной Сибири в ХIХ веке. Возраст вступления северянок в брак весьма схож и с российскими, и с европейскими стандартами (россиянки вступают в ранний брак в возрасте до 20 лет, а европейки от 23–25 лет) – от 19 до 25 лет. Тенденции брачного процесса на Севере, по статистическим данным и нашим наблюдениям, довольно низкие, так как каждый третий взрослый никогда не состоял в браке. Показателем изменения брачного поведения в северных поселениях являются супружеские союзы или сожительства без официального регистрирования брака и внебрачные рождения.
Проанализировав похозяйственные книги Оленекского улуса, мы можем говорить о том, что в данном районе преобладают семьи с тремя и более детьми. Самыми острыми проблемами многодетных семей являются затруднения материального (финансового) и жилищного характера.
На изменение брачного поведения также указывают ответы респондентов о форме семьи, где 34,5 % респондентов отметили, что не всегда удается жить полной семьей, 24,1 % затруднились ответить и 10,3 % указали, что семья – помеха карьере и творчеству. Причиной снижения брачности в северной местности также является диспропорция численности потенциальных женихов и невест [9], из чего можно предположить, что в северном сообществе наблюдаются структурные изменения в институте семьи и так же, как в европейских странах, идет «институализация «нетрадиционных» форм устройства людьми взаимоотношений в сфере частной жизни, углубляется процесс модернизации этой сферы как сферы «демографической разумности» [10].
Далее, анализ эмпирических материалов показал, что традиционный образ жизни в северных поселениях является моделью не только выживания, но и практикой повседневного бытия. Кочевье как жизнедеятельность, вызвана внутренними мотивациями, такими как семейные традиции и социальные связи. При этом адаптация северных семей к изменяющимся внешним условиям идет медленно и трудно. Причиной этого являются: отсутствие у кочевников экономикоправовых знаний, бюрократизация при оформлении получения субсидий, нерешенность земельных вопросов, низкая зарплата, т. е. комплекс субъективных и объективных факторов.
В заключение хотелось бы отметить, что под влиянием трансформационных процессов в дальних северных регионах, так же как и в центральных, семья как социальный институт претерпевает изменения форм брака и моделей образа жизни. Вместе с тем семья сохраняет свою сущность как естественная среда обитания и воспроизводства населения. Тем самым сохраняется необходимость благополучного развития семьи как основы общества, а для коренных малочисленных народов Севера – как основа сохранения этносов. Однако социально-экономическое положение кочевой семьи остается на низком уровне, и для ее адаптации к современным условиям необходимо принять новую государственную программу социальной поддержки северной семьи, и в частности кочевых семей.
Ссылки:
-
1. Линденау Я.И. Описание народов Сибири (первая половина XVIII века): историко-этнографические материалы о народах Сибири и Северо-Востока / пер. с нем. З.Д. Титовой. Магадан, 1983. 176 с.
-
2. Долгих Б.О. Социальная организация и культура народов Севера. М., 1974. 291 с.
-
3. Долгих Б.О. Род, фратрия, племя у народов Северной Сибири. М., 1964.
-
4. Алексеева С.А. Традиционная семья у эвенов Якутии (конец XIX – начало ХХ веков). Новосибирск, 2008. 145 с.
-
5. Иохельсон В.И. Юкагиры и юкагиризированные тунгусы. Новосибирск, 2005. 666 с.
-
6. Балицкий В.Г. От патриархально-общинного строя к социализму (о переходе к социализму малых народов Северо-Востока РСФСР). М., 1969. 221 с.
-
7. Демографический ежегодник Республики Саха (Якутия). 2013 : стат. сб. Якутск, 2014.
-
8. Барашкова А.С. Северная семья: демографический и социально-экономический аспекты. Новосибирск, 2009. 159 с.
-
9. Там же.
-
10. Михеева А.Р. Человек в сфере частной жизни: векторы трансформации семейных отношений. Новосибирск, 2012. 156 с.