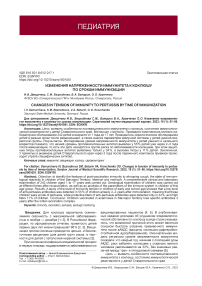Изменения напряженности иммунитета к коклюшу по срокам иммунизации
Автор: Демурчева И.В., Безроднова С.М., Батурин В.А., Кравченко О.О.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Педиатрия
Статья в выпуске: 1 т.19, 2023 года.
Бесплатный доступ
Цель: выявить особенности поствакцинального иммунитета к коклюшу, состояние иммунологической реактивности у детей Ставропольского края. Материал и методы. Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 242 детей в возрасте от 1 года до 17 лет. Проводилось серологическое обследование детей в разные сроки после ревакцинации, а также анализ параметров иммунной системы у детей данной возрастной группы. Результаты. Исследование уровня напряженности иммунитета у детей раннего и школьного возрастов показало, что низкий уровень противококлюшных антител выявлен у 55% детей уже через 2-3 года после иммунизации, то есть эти дети находятся в группе риска по заболеваемости коклюшем, при этом защитные титры противококлюшных антител выявлены только у 34%, а высокие титры у 11% детей. Заключение. У привитых в анамнезе детей Ставропольского края через 3 года после первичного комплекса прививок происходит утрата специфических антител.
Вакцинация, иммунитет, коклюш, серомониторинг
Короткий адрес: https://sciup.org/149143897
IDR: 149143897 | УДК: 616.921.8:612.017.1 | DOI: 10.15275/ssmj1901051
Текст научной статьи Изменения напряженности иммунитета к коклюшу по срокам иммунизации
EDN: EGNYRI
1 Введение. Для коклюша характерна осенне– зимняя сезонность с максимальной заболеваемостью в ноябре — декабре [1–3]. В Российской Федерации, по официальным отчетам, привитость детей первых двух лет жизни превышает 96% [2, 3]. Вакцинация против коклюша проводится цельно- и бесклеточными вакцинами (для детей групп риска, в частности для детей с патологией нервной системы) [3].
При коклюшной инфекции эпидемический процесс в первую очередь поддерживается заболеваемостью
Corresponding author — Irina V. Demurcheva
Тел.: +7 (962) 4453893
вакцинированных пациентов [4, 5]. В опубликованных недавно докладах об ухудшении эпидемиологической обстановки по коклюшу в ряде стран указывалось, что возможной причиной этого может являться слишком быстрое угасание прививочного иммунитета после аАКДС (вакцины коклюшно-дифтерийностолбнячной адсорбированной). Окончательная модель регрессии уровня напряженности иммунитета показала, что каждый год, начиная с последней дозы АКДС, риск заболеть коклюшем у отдельно взятого человека увеличивается на 33%, без значимых различий между трех- и пятидозовой схемами [6].
Цель — выявить особенности поствакцинального иммунитета к коклюшу, состояние иммунологической реактивности у детей Ставропольского края.
Материал и методы. Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 242 детей в возрасте от 1 года до 17 лет. Проводилось иммунологическое обследование детей, определяли титр паракоклюша 1/К; лейкоциты, абсолютные величины; лимфоциты, %; лимфоциты, абсолютные величины; Т-лимфоциты (CD3), %; Т-лимфоциты (CD3), абсолютные величины; Т-супрессоры (CD8), %; Т-супрессоры (CD8), абсолютные величины; Т-хелперы (CD4), %; Т-хелперы (CD4), абсолютные величины; CD4/CD8; ЕК-клетки (CD16), %; В-лимфоциты (CD22), %; В-лимфоциты (CD22) абсолютные величины; CD3/CD22; CD95 (Fas-апоптоз); HLA-DR; МСМ, серологическое — РА, а также общий анализ крови. Все обследуемые дети были разделены на три группы: 1-ю группу составили 100 детей — от 1 года до 4 лет (41,3%), во 2-ю группу вошли 93 ребенка — от 5 лет до 9 лет (38,4%), 3-ю группу составили 49 детей — старше 10 лет (20,3%). Данное распределение детей по возрастам, было обусловлено вакцинальным статусом каждого ребенка.
При обработке данных проводилась их систематизация путем определения и описания основных статистических показателей: М (среднее арифметическое) и m (стандартная ошибка среднего). Нормальность распределения величин определяли с учетом критериев Колмогорова — Смирнова и Шапиро — Уилка. Значимость различий подтверждали критерием Стьюдента. Различия считали значимыми при р<0,05. Обработка цифровых данных произведена с помощью пакета статистических программ Statistica версии 12.0.
Результаты. При серологическом обследовании детей в разные сроки после ревакцинации, низкий уровень противококлюшных антител выявлен уже через 1-3 года после иммунизации у 55% детей, то есть эти дети находятся в группе риска по заболеваемости коклюшем. При этом защитные титры обнаружены только у 34%, а высокие титры у 11% детей. Стоит отметить также, что через 4–6 лет после иммунизации — низкие титры выявлены у 72,5% обследованных детей, защитные у 22,5%, высокие у 5% детей (табл. 1).
Анализ параметров иммунной системы у этих детей выявил следующие результаты (табл. 2).
Таблица 1
Показатели поствакцинального иммунитета к коклюшу среди детского населения Ставропольского края
|
Сроки после ревакцинации |
Всего обследовано |
Уровни антител |
||
|
низкие титры 1:10–1:80 |
защитные титры 1:160–1:320 |
высокие титры от 1:640 и выше |
||
|
1–3 года |
100 |
55 |
34 |
11 |
|
4–6 лет |
142 |
103 |
32 |
7 |
|
Всего |
242 |
158 |
66 |
18 |
Таблица 2
Показатели иммунной системы у детей
|
Показатели |
Низкие титры 1:10–1:80 |
Защитные титры 1:160– 1:320 |
Высокие титры от 1:640 и выше |
|||
|
M |
m |
M |
m |
M |
m |
|
|
Титр коклюша 1/К |
71,2 |
10,6 |
77,3 |
17,3 |
108,1 |
41,1 |
|
Возраст |
6,5 |
0,3 |
4,7 |
0,3 |
6,3 |
1,2 |
|
Иммуноглобулины (Ig), мг/мл A М G |
2,1 |
0,1 |
1,7 |
0,1 |
2,3 |
0,4 |
|
2,6 |
0,08 |
2,5 |
0,1 |
2,8 |
0,2 |
|
|
20,8 |
0,6 |
17,5 |
0,9 |
19,6 |
1,4 |
|
|
Лимфоциты, абс. величины % |
3,0 |
0,1 |
3,4 |
0,1 |
3,6 |
0,4 |
|
39,8 |
0,7 |
41,5 |
1,2 |
41,8 |
2,4 |
|
|
CD3, абс. величины % |
1,6 |
0,1 |
1,9 |
0,1 |
2,0 |
0,2 |
|
51,7 |
0,7 |
56,8 |
0,7 |
53,6 |
2,1 |
|
|
CD8, абс. величины % |
0,6 |
0,02 |
0,7 |
0,03 |
0,8 |
0,1 |
|
20,4 |
0,3 |
22,1 |
0,4 |
21,2 |
0,6 |
|
|
CD4, абс. величины % |
0,9 |
0,03 |
1,0 |
0,05 |
1,1 |
0,1 |
|
29,6 |
0,2 |
30,1 |
0,3 |
31,0 |
0,7 |
|
|
CD4/CD8 |
1,4 |
0,03 |
1,3 |
0,03 |
1,5 |
0,04 |
|
ЕК-клетки, % |
27,7 |
0,3 |
28,0 |
0,2 |
28,5 |
0,3 |
|
CD22, абс. величины |
0,5 |
0,02 |
0,5 |
0,03 |
0,7 |
0,1 |
Окончание табл. 2
Из табл. 3 видно, что статистически значимые различия между детьми с низкими и защитными титрами антител выявлены для следующих параметров:
Значимость различий между показателями иммунной системы у детей
Таблица 3
|
Показатели |
Р 1 |
Р 2 |
Р 3 |
|
Титр коклюша 1/К |
0,304 |
0,870 |
0,690 |
|
Ig, мг/мл |
|||
|
A |
2,085 |
0,675 |
1,532 |
|
М |
0,552 |
0,759 |
1,012 |
|
G |
2,977 |
0,755 |
1,303 |
Окончание табл. 3
|
Показатели |
Р 1 |
Р 2 |
Р 3 |
|
Лимфоциты, абс. величины % |
1,271 |
0,803 |
0,103 |
|
2,060 |
1,290 |
0,305 |
|
|
CD3, абс. величины % |
5,166 |
0,831 |
1,486 |
|
3,156 |
1,509 |
0,068 |
|
|
CD8, абс. величины % |
3,797 |
1,154 |
1,302 |
|
2,967 |
1,507 |
0,153 |
|
|
CD4, абс. величины % |
1,334 |
1,814 |
1,090 |
|
2,190 |
1,652 |
0,603 |
|
|
CD4/CD8 |
2,430 |
0,778 |
2,646 |
|
ЕК-клетки, % |
0,991 |
1,806 |
1,271 |
|
CD22, абс. величины % |
0,029 |
1,818 |
1,725 |
|
3,645 |
1,405 |
3,134 |
|
|
CD3/CD22 |
2,246 |
0,954 |
2,692 |
|
Лейкоциты, абс. величины |
1,720 |
1,278 |
0,302 |
|
CD95 (Fas-апоптоз) |
0,208 |
0,503 |
0,406 |
|
Циркулирующие иммунные комплексы, усл. ед. |
2,873 |
0,269 |
1,505 |
|
HLA-DR |
0,181 |
2,118 |
2,109 |
|
МСМ |
1,298 |
0,714 |
1,155 |
|
RBC, х10 <2/ л |
0,714 |
1,038 |
0,518 |
|
МСV, фл |
0,806 |
0,848 |
1,288 |
|
RDW, % |
1,049 |
1,610 |
2,190 |
|
HCT, % |
1,037 |
0,632 |
0,066 |
|
PLT, х10 9 /л |
1,768 |
0,946 |
0,135 |
|
MPV, фл |
1,633 |
0,579 |
0,314 |
|
WBC, х10 9 /л |
2,542 |
1,278 |
0,030 |
|
HGB, г/л |
1,164 |
0,469 |
0,285 |
|
MCH, пг |
0,912 |
0,782 |
1,311 |
|
MCHC, г/л |
0,105 |
0,589 |
0,506 |
|
LYM, абс. величины |
1,720 |
1,455 |
0,647 |
|
GRAN, абс. величины % |
2,063 |
0,191 |
1,488 |
|
0,293 |
1,605 |
1,373 |
|
|
MID, х10 9 /л % |
2,471 |
1,496 |
0,000 |
|
0,514 |
0,414 |
0,120 |
|
|
Эозинофилы, % |
0,226 |
0,480 |
0,290 |
|
Палочкоядерные нейтрофилы, % |
2,192 |
0,665 |
0,634 |
|
Сегментоядерные нейтрофилы, % |
0,650 |
0,825 |
0,469 |
|
Моноциты, % |
0,636 |
0,951 |
1,153 |
|
СОЭ, мм/ч |
0,563 |
0,368 |
0,092 |
Примечание: Р 1 — значимость различий между детьми с низкими и защитными титрами антител; Р 2 — значимость различий между детьми с низкими и высокими титрами антител; Р 3 — значимость различий между детьми с защитными и высокими титрами антител.
абсолютное содержание лимфоцитов, CD3, CD8, относительное содержание CD3, CD8, CD22, CD4/CD8, CD3/CD22, IgA, IgG, ЦИК, количество лейкоцитов и между детьми с низкими и высокими титрами антител статистически достоверные различия отмечены для абсолютного содержания Т-супрессоров (CD8), В-лимфоцитов (CD22), CD4/CD8, HLA-DR и MID. Статистически значимые различия между параметрами иммунной системы у детей с защитными и высокими титрами отмечены для CD4/CD8, относительного и абсолютного содержания В-лимфоцитов, CD3/CD22, HLA-DR и ширины распределения эритроцитов.
Обсуждение. Длительность и напряженность поствакцинального противококлюшного иммунитета у детей декретируемых возрастов зависит не только от уровня охвата их профилактическими прививками, а также от неукоснительного соблюдения календаря профилактических прививок. Особенностью современного течения коклюша является все более возрастающая регистрация заболевания у «привитых в анамнезе» против коклюша; дети могут заболеть вследствие недостаточной выработки иммунитета или снижения групп — иммунитета у «привитых в анамнезе» детей и у детей с нарушенным графиком прививок (дефекты иммунизации — большие интервалы между прививками, незавершенная схема иммунизации).
Анализ карт эпидемиологического обследования в очагах коклюша в ряде городов России показал то, что в 45,8% случаев источниками возбудителя инфекции для детей до года явились братья и сестры в возрасте от 6 до 15 лет (медиана возраста 9 лет), в 18,2% — родители. Аналогичные данные были получены в зарубежных исследованиях (Канаде, Франции, Германии и Соединенных Штатах Америки), где в 76-83% случаев источником Bordetella pertussis для детей грудного возраста становились члены семьи [8, 9].
Активизация эпидемического процесса коклюша в современных условиях, высокая заболеваемость детей до года, активное вовлечение в эпидемический процесс привитых детей старше 6 лет (основной источник возбудителя инфекции для детей до года), высокая доля детей до года, не получивших законченную вакцинацию против коклюша, высокая восприимчивость взрослого населения, включая беременных, являются основанием для изменения стратегии и тактики иммунизации против коклюша в Российской Федерации.
В свете изложенного можно предположить, что неблагополучная эпидемическая ситуация по коклюшу, складывающаяся в настоящее время, — результат активной циркуляции возбудителя среди подростков и взрослых, которые и являются основным резервуаром B. pertussis . В этих условиях контроль коклюшной инфекции может быть достигнут коррекцией популяционного противококлюшного иммунитета за счет внедрения ревакцинирующих прививок в 6–7 лет, 14 лет и взрослых с 18 лет каждые 10 лет одновременно с дифтерийным и столбнячным анатоксином [10].
Данные программы иммунизации уже реализуются в Австралии, Канаде, Франции, Германии и США. Так, В Канаде в 1990-х гг. наблюдался рост заболеваемости среди подростков и взрослых вследствие низкого уровня популяционного иммунитета. По данным официальной статистики, именно подростки являлись основным источником заражения B. pertussis для детей до года. В 2003 г. Национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) рекомендовал однократную вакцинацию подростков и взрослых комбинированной вакциной против дифтерии, столбняка и коклюша, содержащей ацеллюлярный компонент, вследствие чего заболеваемость коклюшем снизилась в возрастной группе от 15–19 лет с 18,7 (2003 г.) до 1,7 на 100 тыс. населения (2011 г.) [11]. Ретроспективный анализ заболеваемости коклюшем в США показал, что введение бустер-иммуниза-ции подростков привело к значительному снижению числа случаев коклюша в возрасте 11–18 лет [12]. В Западной Австралии, где ацеллюлярную вакцину вводили всем учащимся старших классов во время эпидемии 2008–2009 гг., наблюдалось снижение заболеваемости коклюшем, как среди подростков, так и среди детей в возрасте до 6 мес. [13].
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, решение о внедрении бустерной вакцинации подростков и взрослых должно приниматься с учетом эпидемической ситуации, влияния подростков и взрослых как потенциальных источников инфекции на заболеваемость детей до года и данных фармакоэкономики [7].
Обсуждая в целом представленные результаты, следует подчеркнуть, что настоящее исследование подтвердило актуальность введения второй ревакцинации против коклюша в Календарь профилактических прививок. Из данных анализа отечественной и зарубежной литературы следует, что в первую очередь необходимо иммунизировать детей 6–7 лет из групп риска, в частности детей с бронхолегочной патологией, иммунодефицитными состояниями, из многодетных семей, проживающих в закрытых коллективах, а также первично привитых бесклеточными вакцинами, с последующим введением бустер-дозы подросткам [2, 3].
Заключение. Таким образом, спустя три года от последней ревакцинации у 55% детей выявлен низкий уровень противококлюшных антител. Кроме того, в группе детей с низкими титрами мы наблюдаем преобладание гуморального иммунитета. Возможно, наше исследование приведет к пересмотру существующих схем иммунизации детей в сторону сокращения интервалов между ревакцинирующими дозами и увеличения количества ревакцинирующих доз.
Для улучшения эпидемической обстановки по коклюшу прежде всего стоит обратить внимание на увеличение охвата прививками более 90% среди детей дошкольного возраста (4 дозы). Затем следует подумать над разработкой схемы введения бустерных доз для подростков и взрослых людей по примеру пожизненной вакцинации против дифтерии. Она не обязательно должна проводиться каждые 10 лет. Если коллективный иммунитет достаточно высок, то интервал между введением ревакцинирующих доз может быть увеличен.
Список литературы Изменения напряженности иммунитета к коклюшу по срокам иммунизации
- Nguyen VTN, Simon L. Pertussis: the whooping cough. Prim Care. 2018; 45 (3): 423-31.
- Миндлина А. Я., Полибин P. В. О необходимости совершенствования тактики иммунопрофилактики коклюша. Пульмонология. 2016; 26 (5): 560-9.
- О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2019 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2020: 299 с.
- Diavatopoulos DA, Edward KM. Edward what is wrong with pertussis vaccine immunity? Why immunological memory to pertussis is failing. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2017; 9 (12): a029553.
- Nieves DJ, Heininger U. Bordetella pertussis. Microbiol Spectr. 2016; 4 (3). DOI: 10.1128/microbiolspec.
- Новикова Д.А., Ткаченко H.E. Комбинированная вакцина — эффективная и безопасная защита от пяти управляемых инфекций. Педиатрическая фармакология. 2014; 11 (3): 107-10.
- Pertussis vaccines: WHO position paper. 2015; 90 (35): 433-60.
- Wendelboe AM, Hudgens MG, Poole Ch, Rie AV. Estimating the role of casual contact from the community in transmission of Bordetella pertussis to young infants. Emerging Themes in Epidemiology. 2007; 4 (1): 15.
- Skoff TH, Kenyon C, Cocoros N, et al. Sources of infant pertussis infection in the United States. Pediatrics. 2015; 136 (4): 635-41.
- Степенко А. В., Миндлина А. Я. Управление рисками развития эпидемического процесса коклюша: упущенные возможности и новые перспективы. Медицинский альманах. 2017; 49 (4): 83-6.
- Public Health Agency of Canada. Canadian National Report on Immunization. Can Commun Dis Rep. 2006; 32 (S3): 1-44.
- Skoff TH, Cohn AC, Clark ТА, et al. Early impact of the US Tdap vaccination program on pertussis trends. Arch Pediatr Adolesc Med. 2012; 166 (4): 344-9.
- Quinn HE, Mclntyre PB. The impact of adolescent pertussis immunization, 2004-2009: lessons from Australia. Bulletin of the World Health Organization. 2011; (89): 666-74.