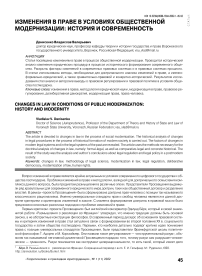Изменения в праве в условиях общественной модернизации: история и современность
Автор: Денисенко В. В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 (11), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изменениям в праве в процессе общественной модернизации. Проводится исторический анализ изменения юридических процедур в процессе исторического формирования современного общества. Раскрыты факторы изменений в современных правовых системах и в правовых системах прошлого. В статье использованы методы, необходимые для доктринального анализа изменений в праве, а именно: формально-юридический, а также сравнительно-правовой и конкретно-исторический. Результатом исследования стал анализ и авторские выводы о правовом регулировании и правовой политике в условиях общества постмодерна.
Изменения в праве, методология юридической науки, модернизация в праве, правовое регулирование, делиберативная демократия, модернизация права, права человека
Короткий адрес: https://sciup.org/14123713
IDR: 14123713
Текст научной статьи Изменения в праве в условиях общественной модернизации: история и современность
Вопрос изменений в праве является крайне актуальным в условиях современного цифрового государства и общества постмодерна. Проблема изменений в праве и методологии, валидной для доктринального осмысления комплекса данного вопроса, была предметом размышления в различные эпохи. Представители Просвещения выдвинули ряд краеугольных для современного юридического мира доктрин, таких как общественный договор и разделение властей. В рамках «проекта Просвещения» была сформирована доктрина прав человека с позиции так называемого классического рационализма. Именно универсальные стандарты прав и свобод человека являются в данной доктрине критерием и ориентиром изменений в законе. С момента формирования доктрины в правовой мысли было предложено несколько различных подходов к проблеме изменений в праве.
Первым критиком «проекта Просвещения» был английский консерватор Эдмунд Бёрк, который в своей знаменитой работе «Размышления о революции во Франции»1 утверждал, что именно традиции должны быть основой закона, а не абстрактные конструкции философов. В современный период дискурс об основаниях правовой системы и критериях изменений в праве стал актуален в связи с формированием во второй половине ХХ в. социального государства и затем общества постмодерна. Первыми, кто наиболее детально подверг критике идею понимания права с позиции универсальных стандартов Просвещения, были представители Франкфуртской школы политической философии Т. Адорно и М. Хоркхаймер. Они назвали такое регулирование — «инструментальный разум», объясняя так называемой негативной диалектикой Просвещения парадокс того, почему разум сам разрушает человеческое — гуманность. Разум понимается как инструмент целерациональности, то есть такой, который имеет дело
СТАТ Ь И
с целями и средствами их достижения2. С распадом религиозно-метафизических картин мира все нормативные мерки утратили значимость перед авторитетом науки, разум в культурном модерне окончательно освобождается от своих притязаний на ценность и ассимилируется с ничем не прикрытой силой — властью3. Таким образом, в процессе модернизации общества происходит разрушение религиозной картины мира, на смену которой приходит постметафизическое мышление, основанное на инструментальном разуме или целерациональных действиях, такое мышление ведет к негативным для общества и личности последствиям. Дальнейшая особенность легитимности позитивного права связывается уже с изменениями в обществе конца ХХ в., которые позволили называть современное общество и государство «постмодернистскими». Так, И. Л. Честнов указывает, что «…ситуация постмодерна характеризуется прежде всего культурным разнообразием. Сциентистская ориентация предшествующих эпох, основанная на вере во всемогущество разума, сменилась радикальным релятивизмом»4.
Вопрос о теориях и взглядах философии постмодернизма представляется более обширным, чем данная публикация, но, безусловно, картина современного общества и права не будет полной без характеристики данного философско-правового направления, ибо вопросы изменений права в работах теоретиков постмодернизма рассматриваются в совершенно ином аспекте, чем в работах иных направлений5. Сразу следует отметить, постмодернизм как движение сложно описать по датам и характеристикам, ибо, как пишет посвятивший многие годы исследованию этого феномена И. Л. Честнов, «постмодернизм, конечно, не цельное учение, школа или мировоззрение, а тем более идеология, а различные, порой значительно отличающиеся идеи, высказываемые философствующими мыслителями»6. Постмодерном называют ряд особенностей в экономике, культуре, в частности в массовом искусстве, которые позволяют отличить представителей идей постмодернизма последней четверти ХХ в. от мыслителей предыдущей эпохи — эпохи модерна. Как указывают отечественные исследователи современного общества: «Постмодерн — эпоха, характеризующаяся резким ростом культурного и социального многообразия, отходом от ранее господствовавшей унификации и от принципов чистой экономической целесообразности, возрастанием многовариантности прогресса, отказом от принципов массового социального действия, формированием новой системы стимулов и мотивов деятельности человека, замещением материальных ориентиров культурными и др.»7 Также отмечается, что отличительными чертами этой эпохи являются «тенденции, проявившиеся в культурной практике и самосознании Запада в течение двух последних десятилетий». «Речь идет о пересмотре кардинальных предпосылок европейской культурной традиции, связанных с прогрессом как идеалом и схемой истории, разумом, организующим вокруг себя весь познаваемый мир, либеральными ценностями как эталоном социально-культурного обустройства, экономической задачей неуклонного прироста материальных благ. Такое переворачивание привычных — модернистских — представлений (отсюда и термин «постмодернизм») охватывает самые различные сферы культурной деятельности»8.
Конечно, если говорить об идейных истоках постмодернизма, то можно назвать весьма далекие от настоящих дней работы. Так, наиболее признанный специалист по праву постмодерна И. Л. Честнов упоминает труды начала ХХ в., в частности работу Рудольфа Панвица 1917 г. «Кризис европейской культуры», где употребляется слово «постмодерный» применительно к человеку9. В настоящей работе не ставится задача исследовать феномен постмодернистской философии от ее зарождения до современности, поэтому раскроем лишь те аспекты этого направления, которые имеют отношение к нашему исследованию и помогут объяснить особенности взглядов постмодернизма на легитимность права. Следует согласиться, что «…для становления постмодернизма ключевую роль сыграли идеи, сформулированные четырьмя ключевыми фигурами: М. Фуко (диссипация микровласти в социальности и ее амбивалентность), Ж.-Ф. Лиотаром (недоверие к метанарративам), Ж. Деррида (деконструкция), Р. Рорти (замена философии, прежде всего гносеологии, литературой)»10. Итак, постмодернизм — это философский (и в дальнейшем правовой) дискурс, который сформировался в работах ряда таких мыслителей, как М. Фуко, Ж. Деррида в конце 60-х гг. ХХ в., между тем сами эти мыслители не называли себя постмодернистами11. Поэтому точкой отсчета в дискурсе постмодернистов-философов, а потом и правоведов можно считать работу Ж.-Ф. Лиотара «Состояние постмодерна» (в оригинале — «La condition postmoderne. Les editions de minuit»), вышедшую во Франции в 1979 г.12 В этой работе провозглашается переход к принципиально новой эпохе, отличающейся от эпохи модерна. Прежде всего, речь шла об изменении в экономике, образе жизни и культуре. Ж.-Ф. Лиотар считает, что современное общество характеризуется «недоверием к метанарративам», так как в современном обществе происходит распад «целостности жизни на независимые специальности, представленные узкокомпетентными экспертами»13.
СТАТ Ь И
Постмодернисты подвергают критике философско-методологические основы гуманитарных наук, в частности юриспруденции. Наиболее известным методом постмодернизма является метод деконструкции14. Как было уже сказано, постмодернизм — весьма противоречивое течение, поэтому сложно анализировать в нем некие общие черты, ведь не зря один из влиятельных социологов второй половины ХХ в. Пьер Бурдье указывал, что «постмодерн — это неразборчивая эклектика, скрывающая разные, в зависимости от страны, реалии»15. Поэтому попытаемся выделить наиболее общие позиции, учитывая неоднородность данного направления. Итак, постмодернисты во многом стоят на позициях правового релятивизма, отрицают возможность общественного консенсуса в современном обществе по ряду причин. Прежде всего, постмодернисты критикуют идею классической рациональности, отрицают объективность истины. По мнению постмодернизма, «объективная реальность» отсутствует. Те правила, по которым живет общество, например идея прав человека, это «социальная конструкция», иными словами, мифы культуры или же идеологии. Как пишет отечественный философ С. В. Моисеев, «постмодернисты отвергают также попытки человека познать ”реальность“ и создаваемые ими объяснительные схемы. Они называют их метанарративами, или ”велики-ми схемами“. Марксизм, фрейдистский психоанализ, либерализм, дарвинизм и т. д. — эти метанарративы пытаются все вписать в одну схему, все подчинить одной логике, а действительность слишком разнообразна, фрагментарна, локальна, подчиняется разным логикам»16. Метанарративы (например, те же стандарты прав человека), по мнению постмодернистов, искажают историю человечества и традиции народов в определенные схемы. Причем социальная реальность в понимании постмодернистов связана с властью. «…Уместно напомнить еще одно утверждение постмодернизма: ”Знание — это власть“. Если так называемая реальность — это ”социальный конструкт“, то тот, кто его конструирует, имеет огромную власть. Он заставляет нас видеть мир таким, каким он хочет, чтобы мы его видели. Он заставляет нас считать естественным и очевидным то, что на самом деле нам навязано и служит чьим-то интересам»17. Исходя из того, что реальность сконструирована, во французском дискурсе философов-постмодернистов была выдвинута идея о «смерти субъекта». Это означает, что субъект сконструирован, сформирован обществом, отношениями, в которых он задействован. Идея «смерти субъекта» — это критика идей Просвещения, так как постмодернисты «противопоставляли «реализм» тотального господства структуры над человеком идеям просветителей, полагавших, что человек, наделенный Разумом, сам, по своему усмотрению, творит социальные (материальные и духовные) условия своего бытия»18. По мнению Жака Лакана, субъект, «Я», индивидуальность — это иллюзия. «Я» — формируется языком, который существует до субъекта. Язык определяет те возможности, даже наше видение ситуаций, наш выбор19.
Постмодернисты отрицают единые, научные взгляды на общество, государство и право. Такие единые стандарты, как «права человека», «природа человека», отрицаются. Правовая сфера, как и всё общество постмодерна, стала более фрагментизированной, в них существует множество мифов, фикций или симулякров20. И идеология, то есть «метанаррации», служит для того, чтобы определять в глазах субъектов, что существует и что подавление и власть — это взаимосвязанные явления. Поэтому правоведы, стоящие на позициях постмодернизма, неизбежно приходят к правовому цивилизационному релятивизму и в качестве современных философских основ признают идеи социальной обусловленности личности, в частности коммунитаризм А. Макинтайра. Итак, действительно ли современное общество и легитимность в нем являются такими, какими их описывают постмодернисты? Для этого необходимо, на наш взгляд, вспомнить гипотезу о наступлении новой эпохи и особенностей в ней легитимности Ж.-Ф. Лиотара, в работе которого «Состояние постмодерна» есть следующие главы: глава 2 «Проблема легитимации», глава 10 «Утрата легитимности» и ряд других, где проблеме легитимности отводится значительное место21. Ж.-Ф. Лиотар пишет: «Нет никаких оснований считать, что можно определить метапрескрипции, общие для всех язы-
СТАТ Ь И
ковых игр, и что один обновляемый консенсус (тот, что в определенные моменты главенствует в научном сообществе) может охватить совокупность метапрескрипций, упорядочивающих совокупность высказываний, циркулирующих в обществе. <…> По этой причине мы считаем неосмотрительным или даже невозможным ориентировать разработку проблемы легитимации в направлении поиска универсального консенсуса»22. Ж.-Ф. Лиотар провозглашает эпоху постмодерна, в которой государство потеряет главенствующую роль: «…Проблема отношений между экономическими и государственными интересами грозит проявиться с новой остротой. Уже в предыдущие годы десятилетия первые могли угрожать стабильности вторых, благодаря новым формам оборачивания капиталов, которым было дано родовое имя мультинациональных предприятий. Эти формы подразумевают, что решения относительно инвестиций отчасти выходят из-под контроля национальных государств»23. На основании всего вышеуказанного делается вывод: «Консенсус стал устарелой ценностью, он подозрителен. <…> Если достигнут консенсус по поводу правил, определяющих языковую игру, и допустимых в ней “приемов“, то этот консенсус должен быть локальным, то есть полученным действующими ныне партнерами, и подвержен возможному расторжению»24.
Надо отметить, что некоторыми отечественными учеными указанная выше гипотеза о современном обществе Ж.-Ф. Лиотара представляется истиной и соответствующей реальности25. Между тем в зарубежной литературе уже с начала 90-х гг. ХХ в. идеи постмодернизма подверглись серьезной критике, а сегодня почти не являются предметом научных дискуссий. Причиной явились ошибочные выводы относительно современного общества, несостоятельность большинства гипотез. Многие известные представители постмодернизма со временем изменили свои взгляды. Наиболее типичным следует признать высказывание З. Баумана: «Слухи о смерти модернити сильно преувеличены: обилие некрологов никак не делает их менее преждевременными»26. Так как в отечественной науке зачастую присутствует некритичное восприятие гипотез постмодернистов 80-х гг., хотелось остановиться на критике их некоторых положений, имеющих отношение к нашей теме. Одна из главных гипотез постмодерна — идея об историческом процессе, который привел к фрагментарности современного общества — такому обществу присущ кризис ценностей (и правового регулирования, в частности). В качестве исследований, опровергающих такие гипотезы, приведем фундаментальные труды одного из влиятельнейших социальных философов современности Френсиса Фукуямы «Великий разрыв» и «Доверие»27. Причина, по который мы ссылаемся именно на этого мыслителя, не случайна: в указанных выше работах Ф. Фукуяме не свойственно делать умозрительные выводы, его нельзя упрекнуть в том, что он строит свои теории общества, образно говоря, в духе «привиделось мне». Все гипотезы и выводы относительно современного общества иллюстрируются значительным количеством эмпирических исследований, составляющих чуть ли не пятую часть объема его работ. Начнем с того, что Ф. Фукуяма возражает по поводу того, что развитие общества — это «постоянно растущий уровень дезорганизации и социальной атомизации». «Означает ли это, что современные либеральные общества обречены на всё усугубляющийся моральный упадок и социальную анархию до тех пор, пока они некоторым образом не взорвутся? <…> Ответ, на мой взгляд, отрицательный — по той простой причине, что мы, человеческие существа, по своей природе устроены так, чтобы создавать для себя моральные нормы и социальную организацию. Ситуация отсутствия норм — то, что Дюркгейм назвал аномией, — чрезвычайно неприятная для нас, и мы стремимся создать новые нормы, чтобы заменить ими те, что обесценились»28. В работах постмодернистов 80-х гг. ХХ в. была популярна идея кризиса, в том числе и правового регулирования, между тем современным ученым следует понимать, что это реалии именно тех лет, так как «начиная с 60-х гг. происходил достигший своего пика в конце 80-х огромный всплеск ”нарушений общественного порядка“ — мелкой преступности вроде надписей на стенах, бродяжничества и мелкого вандализма практически в каждом американском городе. <…> Явная неспособность властей положить этому конец заставляла людей думать, что их общество вышло из-под контроля»29. Между тем спустя несколько лет ситуация изменилась в лучшую сторону, как реакция на преступность возникла политика так называемого общественного надзора в деятельности полиции и «…к 90-м гг. (ХХ в.) положительные результаты общественного надзора за порядком стали делаться все более и более очевидными»30. Главный вывод, который делает Ф. Фукуяма в своих работах, посвященных изменениям в обществе второй половины ХХ в., — это то, что в обществе происходят периодические, связанные с изменением образа жизни, изменением экономики, распады социальных норм. Именно такой и имел место в 70–80-х гг. ХХ в. (Фукуяма называет этот пе- риод «Великий разрыв»), но этот процесс заканчивается чаще всего возрождением социальных норм и связей, но в другой форме. Причем в настоящее время в обществе, где реальность, постиндустриальная экономика и знание действительно стали основным ресурсом экономики31, социальные связи не находятся в постоянном распаде, более того ряд социальных связей укрепились, снизился уровень преступности. Также ряд известных социологов указывают, что именно развитым постиндустриальным странам присущ высокий уровень доверия и взаимодействия: «...хотя формальный закон, а также сильные политические и экономические институты являются необходимыми, самих по себе их недостаточно для того, чтобы гарантировать преуспевание современного общества. Нормальная работа либеральной демократии всегда зависела от наличия определенных культурных ценностей, принимаемых обществом»32. Так, один из влиятельных социологов современности Петр Штомпка в своей книге, вышедшей уже в начале ХХI в., указывает, характеризуя неформальные отношения в условиях глобализации: «Я утверждаю, что глобализация, ведущая к эрозии доверия на локальном уровне, одновременно создает новые механизмы, стремящиеся к возвращению доверия на новом глобальном уровне»33. Таким образом, идеологи постмодернизма поставили ряд важных проблем: прежде всего, справедливо указали на недостатки теории метафизического мышления, классической рациональности, идущей от эпохи Просвещения, верно указали на необходимость изучения и учета общественной практики, между тем гипотезы 80-х гг. ХХ в. о все усиливающемся кризисе, моральном релятивизме и разобщенном характере современного постиндустриального общества не подтвердились.
СТАТ Ь И
Рассуждая об изменении права в современном обществе или обществе «позднего модерна», как его называют ряд авторитетных социальных философов и правоведов, следует упомянуть и о мультикультурных идеях понимания права, связанного с антропологическим подходом и коммунитаризмом в современных социальных и философских дискурсах34. В последней четверти ХХ в. в европейской политической и философской мысли была весьма популярна идеология мультикультурализма, который «подвергает сомнению такие сакральные для философии понятия, как ”всеобщность“ и ”универсальность“, утверждая, что культурные различия имеют статус онтологических, то есть «последних» различий, и не могут быть преодолены без уничтожения носителя этих различий — конкретного народа или социальной группы»35. В отечественном правоведении также популярны идеи мультикультурности, антропологического и социокультурного подхода. В частности, И. Л. Честнов пишет: «Рационально обосновать такие морально окрашенные категории, как формальное равенство, свобода (мера свободы), справедливость, народовластие и т. д., понимаемые даже формально юридически, невозможно. Справедливым в этой связи представляется утверждение А. Макинтайра, по мнению которого «для окончательного разрешения рационального спора потребовалось бы обращение к такой норме или совокупности норм, чьего авторитета ни одна мыслящая личность не могла бы признать»36. Ссылка на А. Макинтайра сторонников антропологического подхода к праву не случайна, ибо главный тезис этого философа-коммунитариста состоит в следующем: «Невозможно обосновать мораль вне исторического и культурного контекста»37. Иными словами, философия коммунитаризма обосновывает признание большего значения локальных ценностей над ценностями универсальными.
Как указывает С. Г. Чукин, коммунитаристы идеям Просвещения и универсальной этике либерализма противопоставляют внимание к традиции добродетелей и партикулярную этику локальных социальных групп. Вместо безликих принципов и ни к чему не обязывающих обязанностей они предлагают личную добродетель, а вместо свободы — выбирать ту или иную форму справедливости — групповые проекты счастливой жизни; вместо большого гетерогенного общества — гомогенное и свободное от господства сообщество38. В основе своих воззрений коммунитаристы используют взгляды Аристотеля о солидарности как самой главной добродетели среди других. Но насколько перспективна такая философско-методологическая основа для правовой политики во внутригосударственных и международных отношениях? Можно выдвинуть ряд вопросов, но, прежде всего, один: стоим ли мы на позициях Аристотеля либо поддерживаем иной взгляд на общество? У Аристотеля существовала категория фроне-зис (благоразумие, рассудительность), которая заключалась в познании, основанном на человеческом опыте, конкретной ситуации. Фронезис Аристотель отличал от теоретического познания (эпистема). Фронезис формируется у индивида при участии в совместной форме жизни сообщества39. Но в таком случае коммунитаристы, использующие позиции Аристотеля, должны отстаивать один, привилегированный образ жизни, как и греки, которые отказывали в понимании блага варварам. В современном толерантном обществе, где есть разные понимания благ, теория
СТАТ Ь И
фронезиса Аристотеля вряд ли перспективна, ибо солидарность в трактовке коммунитаристов достижима только «…в локальных культурах, базирующихся на общей истории, языке, жизненных практиках. <…> Апология ”перспек-тивы родного болота“, к которой, по сути, сводится мораль коммунитаризма, делает его бесполезным при обосновании этики большого общества»40. Неизбежным выводом из работ А. Макинтайра, М. Сэндела и М. Тейлора41 становится кризис универсальных норм и призыв к традициям и обычному праву.
К чему приводят правовые отношения на основании традиционных норм, прекрасно иллюстрирует Средневековье и более ранние традиционные государства, основанные на традиционных нормах. Совершенно справедливым является следующая констатация традиционных государств и правовых систем, им присущих: «Человеческие сообщества были основаны на разнообразных принципах, результатом которых оказывался узкий круг доверия, включающий в себя семью, родственников, династию, секту, религию, расу, этничность и национальную идентичность. Просвещение осознало, что все эти традиционные источники общности были в итоге иррациональными. Во внутренней политике они приводили к социальному конфликту, так как фактически ни одно общество не было гомогенным по любому из этих признаков. Во внешней политике они вели к войне, потому что общества, основанные на различных принципах, постоянно находились друг с другом на мировой арене. Только политический порядок, основанный на универсальном признании человеческого достоинства — сущностного равенства всех людей, вытекающего из их способности к моральному выбору, — может устранить эти иррациональности и привести к мирному внутреннему и международному порядку»42. Поэтому, анализируя вопросы изменений в праве современного общества, можно сказать, что в условиях информационного глобализирующего общества идет постоянный процесс формирования единого социально-нормативного пространства»43. В этих условиях постоянно формируются новые общественные связи и нормы, заменяя старые. Этот процесс связан с увеличением количества и специализации правовых норм, что приводит к кризисам легитимности, но это отнюдь не означает, что современное общество представляет собой совершенно разрозненный социум, в котором невозможен консенсус. Также неверным видится гипотеза об усиливающемся общественном и юридическом кризисе, в условиях которого необходимо вернуться к традиционным институтам. Безусловно, увеличение и специализация права, которые являются неизбежными спутниками общественной модернизации, требуют изменений процедуры легитимации, но эти изменения, на наш взгляд, означают необходимость учета общественной практики в демократических процедурах, чтобы решить проблему признания закона в процессе его изменения. Однако это возможно, на наш взгляд, в методологии рационального, но связанного с идеей дискурса.
В современной правовой науке довольно популярной является тема кризиса в праве44, что, безусловно, связано с кризисом легитимности45. Кризис легитимности современного позитивного права непосредственно связан с процессами модернизации, возникновением в обществе новых противоречий (так называемых социальных патологий современности) и проблемами правового регулирования. Право становится основным средством институционализации общества. В условиях государства всеобщего благоденствия (социального государства) правовое регулирование так или иначе затрагивает все сферы общества, но так как в период модерна оно уже становится самостоятельной системой, которую ряд ученых называют системой «аутопоэзиса», то есть закрытой (термин Никласа Лумана), это приводит к следующим проблемам: юридификации или избытку права, отчуждению граждан от права, иным противоречиям модернизации и рационализации. Указанные явления в современной социальной философии называют «социальные патологии современности»46. Причина возникновения патологий правовой модернизации заключается в том, что доминирование позитивного права в системе социальных норм разрушает традиционные общественные связи, что, помимо негативных культурных последствий, приводит и к юридическим проблемам, таким как рост национализма47, уменьшение эффективности права, вследствие потери коллективной идентичности48. Возникновение в современном обществе таких негативных явлений, как отчуждение человека от власти, избыток права, связано с экспансией позитивного права в сферы традиционного регулирования другими социальными нормами. Выполнение государством социальной функции является необходимым условием для снятия остроты экономических общественных противоречий, но при этом неизбежным становится правовое регулирование большинства общественных отношений. Расширение предмета правового регулирования и детальная юридическая регламентация поведения граждан в государствах «всеобщего благоденствия» во второй половине XX в. привело к уменьшению эффективности права, несмотря на его количественное увеличение. Отрицательные последствия расширения права можно объяснить с позиции коммуникативной рациональности. Частная сфера общественной жизни регулировалась до формирования социального государства через консенсуальные механизмы согласования действий, основанных преимущественно на моральных правилах. При замене позитивным правом общественных регуляторов, основанных на воспроизводстве культуры, неизбежно возникают общественные патологии. Субъекты отношений перестают ориентироваться на взаимопонимание, юридические правила требуют дальнейшей детализации, что связано с бюрократизацией общественной жизни. Отдельный индивид воспринимает мельчающую регламентацию общества как потерю свободы. При этом субъект, не обладающий специальной юридической квалификацией, не понимает смысла юридических процедур и решений. Все это приводит к потере смысла у современного человека в отношении общественной деятельности, что проявляется, в частности, в падении легитимности права и отчуждении человека от власти.
СТАТ Ь И
Для преодоления кризисов правового регулирования и формирования современной правовой политики нужна соответствующая методология. Как справедливо замечает И. Л. Честнов относительно классической теории правового регулирования: «Эта точка зрения сегодня не выдерживает критики, так как не учитывает сложный, до сих пор не проясненный механизм интериоризации (Л. С. Выготский). Сегодня стало очевидно, что внешнее воздействие, в том числе информация, заключенная в нормах права, не детерминирует общественные отношения прямо и непосредственно. Поэтому необходимо учитывать ”человеческий фактор“, выражающийся в правовой культуре, опосредующий правовое воздействие на массовое поведение населения»49. Здесь следует отметить, что, хотя по проблемам правовой культуры и ментальности в последние два десятилетия проводилось достаточно исследований, взгляд на роль человеческого фактора в правовом регулировании практически не претерпел изменений. Субъекты общественных отношений, по сути, понимаются как объекты правового регулирования, на которые воздействует публичная власть, используя стимулы и ограничения. Но такой целерациональный подход приводит к исключению человека из процесса принятия юридического решения, формализации, бюрократизации социального регулирования, что рождает отчуждение граждан от права, кризис легитимности власти, рост национализма и религиозного фундаментализма, так как в процессе применения права гражданин не играет самостоятельной роли. Главную функцию в судебных процессах выполняют юристы — граждане при этом не понимают терминов, аргументации принятия решения, что приводит к формализации судопроизводства, отстранению человека от реализации права. Таким образом, можно сделать вывод, что для преодоления патологий модернизации и рационализации позитивного права явно недостаточно позитивистского механистического подхода к праву. С таких позиций абсолютно исключается роль личности и ее прав в правовом регулировании, ибо позитивистская методология не способна на этот аспект понимания права.
Сторонники теории коммуникативной рациональности (прежде всего, Ю. Хабермас) для преодоления указанных выше противоречий (или патологий) современного общества, неизбежно ведущих к кризису легитимности и кризису эффективности правового регулирования, предлагают ряд мер, вытекающих из общих выводов данной теории применительно к правовой сфере. Так как лингвистическая парадигма, понимающая слово как действие, указывает, что в основе всех социальных взаимодействий лежит признание «другого», взаимопонимание, то неизбежным элементом правовой политики является не только принудительность, но и признание субъекта в качестве равного себе. Применительно к праву это означает формальное равенство и обоснование современной модели народного суверенитета — делиберативной демократии50. Согласно теории коммуникативной рациональности позитивное право должно сочетать в себе одновременно два качества51: фактичность (это аспект, связанный с принудительным характером правовых норм) и значимость (это моральная обоснованность права, человек должен исполнять закон в случае легитимности правовых норм). Если позитивное право сводится лишь к «фактичности», то есть основано лишь на принуждении, в сфере коммуникативных взаимодействий, то такое целерациональное, инструментальное воздействие неизбежно приводит к таким негативным последствиям, как кризис легитимности, формализм права. Ценность такого подхода в том, что он методологически обосновывает и объясняет необходимость демократических институтов и это не противоречит формальному равенству и правам субъектов.
Таким образом, доктринальное осмысление комплекса вопросов, связанных с изменениями в праве, должно, на наш взгляд, быть основано на понимании интерсубъективности права, обусловленности норм позитивного права правами личности и демократическим участием граждан. Без учета общественных ценностей изменения в позитивном праве не будут приводить к желаемому результату.
СТАТ Ь И
Список литературы Изменения в праве в условиях общественной модернизации: история и современность
- АльтерматтУ. Этнонационализм в Европе. М., 2000.
- Аристотель. Никомахова этика. Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1983.
- БауманЗ. Индивидуализированное общество. М., 2002.
- Бёрк Э. Размышления о революции во Франции. Сокращенный перевод с английского Е. И. Гельфанд. М.: Рудомино, 1993. [Электронный ресурс]. URL: http://larevolution.ru/Books/Burke1.html (дата обращения 23.02.2022).
- БурдьеП. За рационалистический историзм. Социологос постмодернизма. М., 1996.
- Власенко Н. А. Кризис права: проблемы и подходы к решению. Журнал российского права, 2013. № 8. С. 43-53.
- Иноземцев В. Л. Постмодерн, постсовременность. Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 3. М., 2010.
- Исаева Н. В. Правовая идентичность (теоретико-правовое исследование). М., 2013.
- Исаева Н. В. Теория идентичности в дискурсе теории права и государства. Правоведение, 2012. № 5. С. 117-134.
- ЛиотарЖ.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? Ступени. Философский журнал, 1994. № 2. С. 87-88.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998.
- Мамут Л. С. Социальное государство с точки зрения права. Социальное правовое государство: материалы межвузовской конференции. СПб., 2003.
- Медушевский А. Н. Кризис права как проблема теоретической юриспруденции. Право и общество в эпоху перемен. М., 2008. С. 89-95.
- Моисеев С. В. Философия права. Курс лекций. Новосибирск, 2004.
- Немытина М. В. Интерпретации категории «правовая культура». Правовые культуры. Жидковские чтения: материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 25 марта 2001 г. Под ред. Г. И. Муромцева, М. В. Не-мытиной. М., РУДН, 2012.
- Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., 2004.
- Фукуяма Ф. Доверие. М., 2006.
- ФурсВ. Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. М., 2000.
- Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М, 2003.
- Честнов И. Л. Актуальные проблемы теории государства и права. Эпистемология государства и права. СПб, 2004.
- Честнов И. Л. Антропология правового регулирования. Актуальные проблемы теории и истории государства и права: тезисы международной научно-теоретической конференции. СПбГУ МВД, 2003.
- Честнов И. Л. Постклассическая теория права. СПб., 2012.
- Чукин С. Г. Ю. Хабермас versus А. Макинтайр: к вопросу об основаниях современного философствования. Размышление о философии на перекрестке второго и третьего тысячелетий. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002.
- Штомпка П. Доверие. Основа общества. М., 2012.
- Bridges T. The Culture of Citizenship: Inventing Postmodern Civic Culture. Albany: State University of New York Press, 1991.
- Douzinas C. Postmodern Jurisprudence: The Law of Texts in the Texts of Law. New York: Routledge, 1991.
- Farrel F. Subjectivity, Realism and Postmodernism: The Recovery of the World. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Habermas J. Between Facts and Norm. Cambridge, 1996.
- MacIntyre A. After Virtue. London, 1981.
- Raz J. Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics. Oxford: Clarendon Press, 1994.
- SandelМ. Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge, 1982.
- TaylorМ. Community, Anarchy and Liberty. Cambridge, 1982.