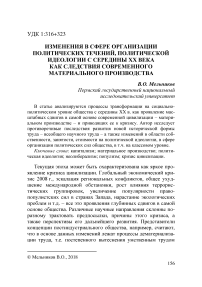Изменения в сфере организации политических течений, политической идеологии с середины XX века как следствия современного материального производства
Автор: Мельников В.О.
Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (2), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются процессы трансформации на социальнополитическом уровне общества с середины XX в. как проявление масштабных сдвигов в самой основе современной цивилизации - материальном производстве - и приводящих ее к кризису. Автор исследует противоречивые последствия развития новой исторической формы труда - всеобщего научного труда - а также изменений в области собственности, занятости, стоимости на политической идеологии, в сфере организации политических сил общества, в т.ч. на классовом уровне.
Капитализм, материальное производство, политическая идеология, неолиберализм, популизм, кризис цивилизации
Короткий адрес: https://sciup.org/147230390
IDR: 147230390 | УДК: 1:316+323
Текст научной статьи Изменения в сфере организации политических течений, политической идеологии с середины XX века как следствия современного материального производства
физического, роста влияния знаний и информации, занятия т.н. «креативным классом» господствующего положения в обществе. Некоторые представители постмодернизма идут дальше и призывают полностью отказаться от таких «отживших» понятий как объективная реальность, классовая борьба и т.д. Тем не менее, на наш взгляд, только материалистический подход способен в наиболее полной, всеобъемлющей форме объяснить и выразить сущность происходящих процессов, в т.ч. и на социальнополитическом уровне.
Данный подход в интерпретации трансформации современного общества обращается к анализу основ социальной реальности: человека, труда, собственности и т.д. Согласно марксистской теории, именно изменения в характере самого труда – процессе перехода от машинного к автоматизированному или всеобщему, научному труду, превращение науки в «непосредственную производительную силу» – и обуславливают, в конечном счете, наблюдаемые процессы. «Всеобщий труд – это практическое воплощение науки, наукоемкий, насыщенный научным знанием, материальный труд» [1, c. 185]. В целом, развитие этого вида труда можно представить как присоединение к собственным силам человека все более мощных, фундаментальных сил природы. На конкретном уровне данный процесс перехода выражен в НТР, как колоссальном скачке уровня производительных сил, который начался с 50-х гг. прошлого века. Небывалый рост технологий, смена в течение одного человеческого поколения нескольких поколений машин, проникновение продуктов научно-технического прогресса во все более широкие массы населения – следствия расширяющихся возможностей человека, его сущностных сил, способностей и потребностей. Это оказывает мощнейшее давление на современные производственные отношения, ставит вопрос о возможности дальнейшего прогресса производительных сил в рамках текущей формации. В.В. Орлов в книге «Философия экономики» отмечает, что развитие НТР наглядно показало правоту прогноза Маркса относительно слома основы товарного производства. Так, в эпоху машинного труда складывается соответствие между потребительно-стоимостным и абстрактно-стоимостным отношениями, когда каждому товару соответствует рабочее время, необходи- 157
мое для его производства. Тем не менее, в середине XX в. «возникновение всеобщего, или научного, труда, когда “действительное богатство общества” начинает все более зависеть не от затрат непосредственного, абстрактного труда, измеряемого рабочим временем, а от мощи тех всеобщих сил человека, которые позволяют вовлекать в производственный процесс все более мощные силы природы, означает разрушение той пропорциональности или соответствия, которое существует между вещественным и абстрактным богатством, потребительными стоимостями и стоимостью, порциями абстрактного труда» [1, c. 217]. В этом смысле капиталистический способ производства уничтожает собственные основы, пожирает сам себя.
Между тем, капитал по-прежнему стремится к самовозраста-нию, самоувеличению. Мы сказали, что развитие производительных сил резко сократило необходимое рабочее время для создания товара. Однако также сократилось время (причем намного значительнее), необходимое для денежных операций: сегодня ежесекундно в мире происходят миллионы финансовых трансакций благодаря безналичному расчету. Вследствие этого, современная эпоха – период небывалого господства финансового капитала, когда происходит его огромнейший отрыв от реального производства. Это добавляет капитализму на его текущей стадии пакет новых проблем. Так, глобальный кризис 2008 г. до сих пор не преодолен. Его природа уже достаточно хорошо изучена и заключается в невероятной финанциализации всех секторов экономики, диктате финансово-спекулятивного капитала. «По существу современный капитализм сместил акцент в своей деятельности с созидательной, производственной деятельности к финансово-паразитической. На пике финанциа-лизации в 2007 г. сумма капитализации рынков акций, долговых обязательств и банковских активов превышала мировой ВВП в 4,4 раза, а теневой рынок деривативов достиг почти 600 трилл. долл., что в 11 (!) раз превышало тот же показатель» [2].
Разумеется, что изменения в характере труда повлекли за собой и изменения в сфере собственности. При этом необходимо развеять иллюзии апологетов капитализма, возвестивших о расцвете свободной конкуренции в связи с новыми технологическими нишами. Да, будучи первоначально абсолютно новыми 158
сферами рынка, за полувековую историю НТР они также монополизировались, как и более «традиционные» сектора: ТНК как росли, так и растут, просто увеличивается каскад дочерних компаний. «Пять крупнейших ТНК контролируют более половины мирового производства товаров длительного пользования, самолетов, электронного оборудования, автомобилей и другой продукции. Шесть промышленных гигантов обеспечивают три четверти добываемой в мире нефти и 95 % железной руды. Особенно значительна степень концентрации в отраслях, связанных с информационными технологиями. Например, 2–3 компании практически контролируют международную сеть телекоммуникаций» [3, с. 127–128] Современный капитализм, пытаясь вниснуть новые, зарождающиеся производительные силы, например, в сфере компьютерного труда, в свои рыночные условия сталкивается с весьма серьезными проблемами. Особенно популярны в последнее время дискуссии относительно такого понятия как «интеллектуальная собственность». Действительно: сегодня патентуется практически все, вплоть до определенных строчек программного кода, что существенно ограничивает возможности для разработки, например, свободного программного обеспечения (ПО). На социальнополитическом уровне это приводит к ответным действиям: созданию т.н. «пиратских» политических партий, на парламентском уровне борющихся за свободный интернет, свободное распространение ПО и т.д. В ряде стран этим организациям уже удалось пробиться в законодательные органы власти [см. напр.: 4]. Еще одним примером антисобственнического протеста, помимо борьбы рабочих за свои права, является движение экологов, которые по мере дальнейшей эксплуатации природы все чаще приходят к левым взглядам. В сути их рассуждений – понимание противоречия между необходимой общественной собственностью человечества на всю окружающую природу и текущей частной собственностью на нее отдельных лиц и организаций, которая разрушительно влияет на экологическую обстановку на всей планете [5].
Изменения в структуре материального производства не могли не затронуть сферу занятости. При этом необходимо учитывать конкретно-историческую ситуацию периода подъема НТР: 159
существование в ядре капиталистической системы «общества всеобщего благоденствия». Стабильный рост заработной платы, социальных выплат, развитие систем качественного и, самое главное, доступного образования и здравоохранения постоянно увеличивало стоимость рабочей силы в странах «ядра». Все это обеспечивалось наличием перераспределительного механизма на уровне национальных государств и в целом было довольно прогрессивным явлением, однако «социальные издержки» каждой конкретной фирмы возрастали. Это вынуждало капиталистов искать пути снятия этих издержек, что и вылилось в процессы интенсификации производства, снижения числа рабочих мест, путем автоматизации производства, инвестирования гигантских средств в науку, прикладные исследования. Данный путь развития был не единственным: еще до 70-х гг. капитал искал варианты выноса производства в страны с дешевой рабочей силой, в дальнейшем процесс деиндустриализации стран центра только усиливался. В связи с этим, в ядре капиталистической системы, да и в ряде стран за ее пределами, произошло перетекание рабочей силы в сферу услуг. В США доля таких работников впервые превысила «синих воротничков» в 1956 г.
Подобные изменения основ современной цивилизации повлияли на развитие общественного сознания, например, в области политических идеологий. Как мы уже упомянули, процесс расширения сферы услуг, удлинение цепочек стоимости, когда производственные части выносятся в страны с низкой оплатой труда, но всевозможные менеджерские, административные, маркетинговые и прочие остаются в странах центра, раздувающийся штат биржевых аналитиков, брокеров и т.д. – все это способствует увеличению числа людей, которые, не являясь собственниками, т.е. работая по найму, тем не менее исполняют их функции управления. Не занимаясь физическим трудом, получая куда большую, чем обычные пролетарии, зарплату, они, однако также испытывают все ужасы эксплуатации, тоже вынуждены постоянно конкурировать друг с другом за рабочие места. Более того, в отличие от тех же пролетариев, за спиной у представителя среднего класса нет профсоюза, способного его защитить при надобности, это только усиливает атомизацию. Р. Дзарасов указывает, что в 20-е гг. прошлого века, управляю- 160
щие получили достаточно обширные полномочия по администрированию компаний, однако 80-е гг. по американской экономике прокатилась «контрреволюция акционеров». «В условиях устойчивого падения прибыльности в производственном секторе модель корпоративного управления в американском бизнесе фундаментально изменилась. Произошел сдвиг корпоративной власти от менеджеров к акционерам, преодолевшим традиционное отделение собственности от управления» [2]. В связи с этим, эксплуатация средних слоев значительно увеличилась: «Антропологическое исследование финансовых структур США обнаружило доминирование агрессивной культуры, характеризующейся жесткой иерархичностью, сегрегацией по принципам расы и пола, репрессивным характером. На Уолл-Стрит господствует крайне неустойчивая занятость, стимулирующая извлечение краткосрочной прибыли» [2]. Тем не менее, было бы преувеличением считать средний класс носителем революционных идей даже в подобных обстоятельствах.
Таким образом, положение средних классов социальнопротиворечивое: защищая частную собственность, испытывая презрение к «плебсу» (в связи с тем, что оно, например, голосовало за Трампа [6]), они, тем не менее, готовы солидаризоваться с ним ради общих интересов, как это было во время акции «Окку-пай Уолл-Стрит» в 2011 г. Это происходит и на рабочих местах, как, например, во время стачек в Силиконовой долине в 1996: «Высококвалифицированные технические работники: инженеры, разработчики программного обеспечения (большинство мужчины, большинство “белые”, высокообразованные, с высокой заработной платой, так называемая элитная рабочая сила) - стали на защиту требований улучшения условий труда и повышения зарплат для работников социального обслуживания, которые начали эту акцию. В результате такие компании, как Apple, Intel, Hewlett-Packard, Oracle и IBM, не могли функционировать» [7]. Такая неустойчивая позиция неизбежно порождает идеологическую дезориентацию, эклектичный набор из самых разных, в т.ч. противоположных, идеологем. Подобная сборная солянка не способна выстраивать четкой, последовательной позиции по какому-либо социально-экономическому или политическому вопросу. Провалом завершилась упоминавшаяся «Оккупай Уолл-Стрит», при- 161
чем, если Б. Кагарлицкий в числе причин поражения указывает на отсутствие единой идейно-политической платформы участников протеста, широком фронте различных сил [8, с. 169] (с чем мы тоже согласны), то мы бы также добавили, что идейного единства не было и не могло быть даже внутри отдельных групп, участвующих в акции.
При этом не стоит считать, будто идеологическая дезориентация присуща только средним классам: зарождаясь вместе с ними, она впоследствии распространяется на все остальное общество. Способствуют этому уже упоминавшиеся процессы: вынос производств, их автоматизация, расширение сферы массового потребления и т.д. Например, автоматизация производства, появление возможности его децентрализации, когда часть производственных функций отдается на аутсорсинг, снижает организационную силу пролетариата. Рассуждая об идеологической дезориентации, смешении идеологий вследствие роста средних слоев, капиталистическая пропаганда поспешно возвещает о «конце идеологий». Рабочий класс объявляется «исчезающим», «испаряющимся» и т.д. Между тем, число промышленных рабочих в мире постоянно растет, например, в том же Китае каждый год на рынок труда выходят около 20 млн. крестьян [9], идущих работать, как правило, на промышленные предприятия. «Если в 1980 г. в мире насчитывалось всего 1,9 млрд рабочих, то к 2007 г. их число увеличилось до 3,1 млрд. Около 1,2 млрд человек из Китая, Индии и бывшего СССР пополнили глобальный рынок труда. 73 % рабочих проживает сегодня в развивающихся странах» [10]. Да и миграция в страны центра выглядит весьма впечатляющей, вспомнить хотя бы потоки беженцев после Арабской Весны и войны в Сирии. Конечно, эта низкоквалифицированная рабочая сила не идет работать на завод, но и к средним слоям ее также нельзя отнести. В этом смысле, на наш взгляд, стоит говорить не о сокращении рабочего класса, а о сокращении его организованности.
Растущие возможности производительных сил, требовали на социально-политическом уровне еще больше свободы, чем могло дать даже «общество всеобщего благоденствия», однако историческую победу в социальных баталиях конца 60-х, 70-х гг. прошлого века одержали не прогрессивные, а реакционные си- 162
лы. К власти в конце 70-х гг. пришли т.н. «новые правые» – М. Тэтчер в Великобритании, Р. Рейган в США, еще раньше, в ходе кровавого переворота – А. Пиночет в Чили. Проводимая ими политика на демонтаж социального государства, дерегулирование рынков, утверждения свободной торговли на внешних рынках, получила название неолиберальной. Название в целом, довольно спорное, т.к. фактически сама идеология является калькой с классического либерализма, чьи принципы затем полностью перенял буржуазный элитарно-индивидуалистический консерватизм. Так что в этом смысле, политику «новых правых» следует скорее называть «неоконсерватизмом», как это делают, например, А.А. Галкин и П.Ю. Рахшмир [11]. Однако на наш взгляд, проблема здесь лежит именно в приставке «нео», т.к. по сути ничего нового в ней нет, кроме нового времени (эпохе НТР, общества потребления, глобализации и т.д.), в котором она действует. Фритрейдерство и невмешательство государства в экономику по-прежнему являются стержнем экономической политики. Как и классические либералы, их «неолиберальные» товарищи критикуют демократию: особо показателен в этом плане доклад «Кризис демократии» за авторством С. Хантингтона, М. Крозье и Д. Ватануки. В нем авторы говорят, что правительства слишком сильно нагружены социальными обязательствами, идущими от требования большинства. Когда же эти обязательства не выполняются, это вызывает недовольство, что потенциально опасно для общества, следовательно, эти обязательства нужно сокращать [12]. Слом национальных перегородок, потеря суверенитета отдельных государств, т.н. неоколониальная политика стран «глобального Севера» против стран «глобального Юга» – результат триумфа неолиберализма в современном мире – новой политической организации правящего класса.
Тотальная эксплуатация всего населения Земли приводит к масштабному увеличению неравенства. По данным организации Oxfam, в 2016 г. состояние 1 % самых богатых людей планеты превысило состояние 99 % всех остальных жителей Земли [13]. При этом капитализм, разумеется, не стесняется эксплуатировать докапиталистические способы производства. Так, по данным Международной организации труда в современном мире насчитывается более 21 млн. самых настоящих рабов [14], в то 163
время, как по данным ООН за 400 лет трансатлантической работорговли из Африки в Америку было привезено около 15 млн. [15] (конечно, без учета погибших до прибытия). Это приносит прибыль в размере более 150 млрд. долларов США в год.
Впрочем, экономическое принуждение зачастую бывает не более гуманным, чем внеэкономическое, т.к. использование капитализмом достижений новой формы труда невероятно противоречиво. Речь идет не только об интеллектуальной собственности и коммерциализации сфер, которые могут быть признаны принципиально нерыночными (образование, здравоохранение), но и о банальном сохранении человеческой жизни. Н. Дайер-Визефорд на примере взрыва в шахте около города Сома в Турции, вызванной сокращением затрат на безопасность труда и в результате которой погиб 301 человек, показывает что металлы, добываемые на подобных шахтах, используются для создания, например, такой суперсовременной системы как «VITAL», которая сама анализирует биржевые рынки для более выгодных инвестиций. Презентация этой системы случилась в тот же день, что и взрыв в шахте. «Произошедшие в один день эти 2 события стали совпадением. Однако это рельефно подчеркивает сосуществование в современном капитализме необыкновенно высоких технологий и рабочих, которые живут и умирают в таких условиях, которые, казалось бы, были в допотопном прошлом. Они не просто сосуществуют, они взаимосвязаны… Другие шахты, с условиями намного хуже тех, которые были на Соме, добывают золото, платину, редкоземельные металлы, колумбит-танталит и прочие минералы, которые затем используются для производства компьютеров» [16, c. 2–3]. Все вышеописанные процессы представляют собой зажатие растущих производительных сил в рамках старых производственных отношений, что и ведет к неминуемым кризисам всей системы.
Изменения в структуре современного общества, организации правящего класса, повлияли на ответные действия в классе угнетенном. О некоторых мы уже сказали. К сожалению, необходимо признать, что повсеместный отказ от марксистской теории, как в нашей стране, так и на Западе, привел к снижению эвристических возможностей, объяснительного потенциала концепций, описывающих современное общество и состоящих 164
на вооружении представителей низших слоев. Б. Кагарлицкий, анализируя причины торжества неолиберализма, приходит к выводу, что одной из важнейших из них стала переориентация левых с классовой политики на культурную, дискурсивную. Говоря о Франции: «Левые занимались интеллектуальными играми, вели агитацию в университетах, рассуждали о постиндустриальном обществе или, напротив, предавались сектантской ностальгии, обмениваясь старомодными обвинениями. Социалистическая партия превратилась в ведущую неолиберальную силу, обслуживающую интересы крупного финансового капитала и отличающуюся от правых только роскошью личного потребления начальства и готовностью по любому поводу и даже без повода расхваливать преимущества капитализма – ничего подобного правые и консервативные политики себе не позволяли. Другим отличием социалистов от правых стала их претензия на защиту прав меньшинств – религиозных, этнических и, естественно, сексуальных. При этом сами меньшинства отнюдь не призывали официальных левых на роль защитников» [8, c. 108]. Постмодернистские размышления об исчезновении объективной реальности, существующих в ней проблем, и, разумеется, классового противостояния вносили и по-прежнему вносят дальнейший хаос в состояние идеологий и политической борьбы. Выделяя кучу идентичностей (кроме классовых), левые интеллектуалы сводят суть политической повестки движения к культурной гегемонии в защите меньшинств, активному утверждению политкорректности и толерантности. Последнее может иметь позитивную окраску, но только в том случае, если при защите меньшинства населения не страдает большинство. При обратных обстоятельствах, выгоду получают не левые, а правые, т.к. активное насаждение толерантности и политкорректности вызывает у обычных людей лишь раздражение. Например, Э. Балибар отмечает интересные особенности трансформации идей расизма в «дифференциалистском» ключе. Суть этой точки зрения в том, что сторонники расизма отошли от своих прежних взглядов и даже примкнули к лагерю левых, поддерживая их аргументы относительно важности каждой расы, цивилизации, культурной группы для развития человечества и т.д. Но отсюда они вывели, что смешение культур, сокращение культурных ди- 165
станций приведет к оскудению интеллектуального багажа, накопленного всеми народами, а, возможно, даже приведет к цивилизационному тупику. Сюда же они добавили известную потребность человеческих групп и сообществ защищать свою идентичность. «Если культурное различие, которое невозможно уничтожить, есть настоящая “естественная среда” человека, атмосфера, необходимая для исторического дыхания, то исчезновение этого различия необходимо завершится тем, что спровоцирует защитные реакции, “межэтнические” конфликты, и общий подъем агрессивности. Нам скажут, что эти реакции “естественны”, но от этого они не становятся менее опасными. Удивительный поворот дела: мы видим, что дифференциалист-ские доктрины сами предлагают свои услуги для того, чтобы объяснить расизм (и предвосхитить его)» [17, с. 32–33].
Тем не менее, по мере дальнейших изменений в структуре материального производства, попыток правящего класса удержать эти изменения в старых производственных рамках, постепенно оформлялось низовое сопротивление. Пятнадцать лет назад по всему миру гремело общее движение Труда против глобального Капитала. А. Каллиникос в своей книге «Антикапи-талистический манифест» весьма удачно назвал это движение антикапиталистическим, т.к. именно противостояние системе было главным лейтмотивом людей, в нем участвующих. Тем не менее, в СМИ его назвали антиглобалистским с совершенно ясной целью: представить участников как неких безумцев, борющихся с объективными тенденциями глобализации. Движение не было однородным: А. Каллиникос выделял в нем несколько групп, часть которых в целом, можно назвать правыми: «лока-листский антикапитализм», «реакционный антикапитализм» и даже «буржуазный антикапитализм» [18, с. 77–86]. Их идеология представляла собой ряд утопичных пожеланий в духе сохранения капитализма, но уничтожения его негативных последствий. Однако большая часть последователей этого движения представляла левый фланг, которые своей целью видели создание общемировой структуры, способной на глобальном уровне бороться за права «Глобального Юга» против аппетитов «Глобального Севера». Когда А. Каллиникос писал эту книгу, движение было на подъеме, в разных странах прошли народные вы- 166
ступления: в Сиэтле в 1999 г., Генуе в 2001 г., когда акция собрала более 200 тыс. человек, в Барселоне в 2002 г. собралось уже 250 тыс., состоялись первые Всемирные социальные форумы в Порту-Аллегри, Мумбае. Поэтому он имел основание считать кооперацию между различными, в т.ч. идеологически противоположными частями движения важной его составляющей. Однако и он не мог не замечать извечного противоборства интересов реформистов и революционеров. «Двусмысленность реформизма как политической стратегии заключается в том, что он бросает вызов системе и дает ей средства для сдерживания того же вызова. Эту проблему не так-то просто решить» [18, c. 152]. Именно из-за усиления реформистского крыла движения, оно резко пошло на спад. Мировой экономический кризис 2008 г. также стал катализатором распада, т.к. выяснилось, что у антикапиталистического движения нет ни четкой экономической программы, ни плана действий, ни хотя бы общего понимания природы кризиса. Когда перед ним встали конкретные вопросы, от былой сплоченности и кооперации не осталось и следа. Если на форуме в Мумбае в 2004 г. собралось 125 тыс. человек, в Порту-Аллегри в 2005 – 155 тыс., то в Монреале в 2016 – лишь 35 тыс.
Однако поражение антикапиталистического движения нисколько не сбавило оборотов классового противостояния. В последние годы, на фоне упоминавшейся идеологической разрухи, кризиса современной цивилизации наиболее эффективной формой политической организации масс стал популизм. Популизм можно охарактеризовать как «разнородные по идейнополитическому содержанию общественные течения и движения, апеллирующие к широким массам и отражающие противоречивость массового сознания» [19].
Сегодня, популисты как справа («Национальный фронт во Франции», «Австрийская партия свободы» и т.д.), так и слева («Подемос» в Испании, «СИРИЗА» в Греции и т.д.) опираются на нерешенные и все более углубляющиеся социальные проблемы в обществе – демонтаж системы социального государства, увеличение неравенства, приватизацию и т.п. – следствия триумфа неолиберализма. Именно этим популистским бунтом масс против неолиберальных реформ могут быть объяснены победы 167
Брекзит в Великобритании (референдум о выходе из Европейского союза), Д. Трампа на выборах президента США, референдума о выходе Каталонии из состава Испании и т.д. Поднимет ли это спираль классовой борьбы на новую высоту или же разнородные, эклектичные формирования вновь проиграют? Ответ на данный вопрос даст лишь время.
Таким образом, мы видим, что многие общественнополитические движения пытались и пытаются бороться за прогрессивную повестку дня: перераспределения собственности в пользу общества, улучшения ситуации с занятостью, социальным равенством, миром во всем мире. Однако коренные причины кризисных процессов, лежащих в основе современной цивилизации, были ими либо не поняты, либо поняты не до конца. В результате сколько-нибудь серьезных результатов социальным низам эта общественно-политическая борьба пока не принесла. Лишь материалистический подход, ориентированный на целостный анализ общества и, в первую очередь, – его материальной, производственной базы, способен дать адекватное объяснение происходящим изменениям. В их основе лежит развитие новой формы труда – всеобщего научного труда, ломающего сложившиеся рамки и преграды.
THE CHANGES IN THE POLITICAL LINES, POLITICAL IDEOLOGIES ORGANIZATION SPHERE FROM THE MIDDLE OF THE XX CENTURY
Perm State University
Список литературы Изменения в сфере организации политических течений, политической идеологии с середины XX века как следствия современного материального производства
- ОрловВ.В., Васильева Т.С. Философия экономики. LAP.Lambert. Academic Publishing. Саарбрюкен, 2011. 272 с.
- Дзарасов Р.С. Развитие в современном мире: Возможен ли национально ориентированный капитализм // Dzarasov.ru. URL: http://dzarasov.ru/56-sovremennaya-rossiya-nasazhdenie-otstalosti-v-deystvii (дата обращения: 15.09.18).
- Гриценко В.С. Труд в постиндустриальном обществе: дис. ... канд. филос. наук. Пермь, 2012.
- Васильев А. Пиратская партия заняла третье место на выборах в парламент Исландии // Rg.ru. URL: https://rg.ru/2016/10/30/ piratskaia-partiia-zaniala-trete-mesto-na-vyborah-v-parlament-islandii.html (дата обращения: 15.09.18).
- Klein N. This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate. Toronto: Knopf Canada, 2014. URL: https://ia902307.us.archive.org/ 34/items/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q/Naomi%20Klein%20-%20This%20Changes%20Everything.pdf (accessed: 15.09.18).
- Кагарлицкий Б.Ю. Потрясения в Америке // Рабкор. URL: http://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2016/11/10/working-class-revenge/ (дата обращения: 15.09.18).
- Гриценко В.С. Н. Дайер-Визефорд «Кибер-маркс: циклы и круговороты борьбы в высокотехнологичном капитализме» // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2010. Вып. 2(2). С. 22-50.
- Кагарлицкий Б.Ю. Неолиберализм и революция. СПб.: Полиграф, 2013. 256 с.
- Пихорович В. Заметки на полях книги «Есть ли будущее у капитализма?». Ч. 6. Не рано ли хоронить могильщика? // Пропаганда. 2017. URL: http://propaganda-journal.net/ 9984.html#sdfootnote6sym (дата обращения: 15.09.18).
- Дзарасов Р.С. От социального государства к мировому кризису. И обратно? // Redflora. 2015. 18 авг. URL: http://www.redflora.org/ 2015/08/blog-post_18.html (дата обращения: 15.09.18).
- Галкин А.А., Рахшмир П.Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем. Л.: Наука, 1987. 194 с.
- CrozierM., Huntington S., Watanuki J. The Crisis of Democracy: Report for the Trilateral Commision. N.Y.: New York University Press, 1975. 221 p. URL: http://trilateral.org/download/doc /crisis_of_democracy.pdf (accessed: 15.09.18).
- An economy for 1 % // Oxfam Briefing Paper. 2016. Jan 18. URL: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/b p210-economy-one-percent-tax-havens-180116-en_0.pdf (accessed: 15.09.18).
- МОТ: 21 миллион человек заняты принудительным трудом // Информационный центр ООН в Москве. 2014. 20 мая. URL: http://www.unic.ru/event/2014-05-20/v-mire/mot-21-million-chelovek-v-mire-zanyaty-prinuditelnym-trudom (дата обращения: 15.09.18).
- День памяти работорговли // Un.org. URL: http://www.un.org/ru/events/slaveryremembranceday/ (Дата обращения 15.09.18)
- Dyer-WithifordN. Cyber-Proletariat: Global Labour in the Digital Vortex. URL: http://s3.amazonaws.com/arena-attachments/ 491344/b7fc16f65747af9161bd69ea80b9e851 .pdf (accessed: 15.09.18).
- Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности / пер с фр., под. ред. О. Никифорова, П. Хицкого. М.: Логос, 2004. 288 с
- Каллиникос А. Антикапиталистический манифест. М.: Праксис, 2005. 192 с.
- Большой энциклопедический словарь. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/240534 (дата обращения: 15.09.18).