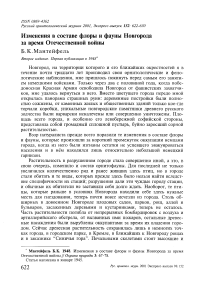Изменения в составе флоры и фауны Новгорода за время Отечественной войны
Автор: Мантейфель Б.К.
Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis
Статья в выпуске: 152 т.10, 2001 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140149271
IDR: 140149271
Текст статьи Изменения в составе флоры и фауны Новгорода за время Отечественной войны
Второе издание. Первая публикация в 1948*
Новгород, на территории которого и его ближайших окрестностей я в течение почти тридцати лет производил свои орнитологические и фенологические наблюдения, мне пришлось покинуть перед самым его занятием немецкими войсками. Только через два с половиной года, когда победоносная Красная Армия освободила Новгород от фашистских захватчиков, мне удалось вернуться в него. Вместо цветущего города передо мной открылась панорама страшных руин: деревянные постройки были полностью сожжены, от каменных жилых и общественных зданий только кое-где торчали коробки, уникальные новгородские памятники древнего русского зодчества были варварски искалечены или совершенно уничтожены. Площадь всего города, и особенно его левобережной софийской стороны, представляла собой громадный сплошной пустырь, буйно заросший сорной растительностью.
Взор натуралиста прежде всего поразили те изменения в составе флоры и фауны, которые произошли за короткий промежуток оккупации немцами города, когда из него были изгнаны остатки не успевшего эвакуироваться населения и в нём находился лишь относительно небольшой немецкий гарнизон.
Растительность в разрушенном городе стала совершенно иной, а это, в свою очередь, изменило и состав орнитофауны. Для последней не только увеличился количественно ряд и ранее живших здесь птиц, но в городе стали обитать и те виды, которых прежде здесь было нельзя найти вследствие специфичности их стаций; разрушения дали эти чуждые городу стации, и обычные их обитатели не заставили себя долго ждать. Наоборот, те птицы, которые раньше в условиях Новгорода находили себе здесь нужные места для гнездования, теперь почти вовсе исчезли из города. Столь обширных в довоенном Новгороде плодовых садов, парков, рощ, аллей и бульваров, засаженных деревьями и кустарниками, теперь не осталось. Часть растительности погибла от непрерывных бомбардировок с воздуха и артиллерийского обстрела, от вызванных ими пожаров, остальные древесные насаждения были вырублены оккупантами за время их владения городом. Сейчас древесная растительность сохранилась лишь в немногих точках города, в городском парке, в Кремле, в ближайших к Новгороду рощах и в заказнике “Синичья гора”. Печальными скелетами стоят высохшие и поломанные деревья на многих местах пожарищ. Вся площадь города, т.е. места бывших застроек, его улицы и широкие площади, покрыты теперь непроходимой, в буквальном смысле слова, чащей высокой, скрывающей собою не только пешехода, но и всадника или автомашину, сорной растительности. В последней преобладание получил буйно разросшийся необычайно высокий иван-чай, находившийся в момент моего приезда в Новгород в периоде полного цветения, от чего окружающая картина была особенно своеобразной — сотни тысяч колыхавшихся на ветру цветов давали впечатление волнующегося лиловато-розового моря.
Вместе с иван-чаем бурно разрослись такие сорняки, как чернобыльник, полынь, пустырник, лебеда, лопух. Последний в пределах городского парка занял всю свободную от деревьев и пней площадь, оставив лишь открытой узенькую дорожку на месте бывшей главной аллеи. Через эти заросли во многих местах города совершенно невозможно пройти, настолько они густы.
В первых числах августа, когда я, вернувшись в родной город, начал его обследование, нижний ярус растительности пестрел всеми цветами спектра от множества цветущих васильков (посевного и лугового), поповника, льнянки, тысячелистника, кульбабы, осота и многих других луговых и лесных трав. Многочисленные воронки от крупных бомб и снарядов сейчас представляли собой водоёмы, покрытые сплошь ряской и густо заросшие тростником, частухой, зонтичным сусаком и некоторыми другими прибрежными растениями.
Не только травы, но и древесные породы поразили меня быстрым своим ростом: высокие и густые кусты бузины, малины, ивняка, поросли липы, тополя видны были на тех местах, где ещё три года тому назад стояли жилые дома или были тротуары улиц. Отовсюду неслось стрекотание кузнечиков, перед глазами мелькало множество летающих насекомых, среди которых с изумлением пришлось отмечать чисто лесные виды бабочек и жуков.
Но более всего я был поражён изменившейся в опустошённом городе фауной птиц. В нём появились виды, ранее или совсем не обитавшие, или не встречающиеся в летний период. В совершенно исключительном количестве появились в городе белые и жёлтые трясогузки, чеканы-каменки, серые мухоловки, сорокопуты-жуланы и другие. Повсюду, буквально на каждом шагу, замечались щеглы, зеленушки, коноплянки, дрозды, а по набережным Волхова, также густо заросшими разнообразной травянистой растительностью, неслось неумолчное пение камышевок. Над рекой, в пределах города, летало множество чаек, которые, присаживаясь на отдых, сплошь покрывали собою те места, где ещё недавно стоял лесопильный завод, находились причалы для пароходов и т.п.
Последующие экскурсии по разорённому городу ещё более подтвердили эту картину необычайного обилия пернатого населения: идёшь по бывшим центральным улицам и площадям, и повсюду, крому упомянутых выше птиц, видишь горихвосток, пеночек, сотенные стаи слётков скворцов. Различные виды куликов, от маленького перевозчика Tringa hypoleucos до крупных — веретенника Limosa limosa или улита Tringa nebularia, встретить которых можно было раньше только далеко за пределами города или в Рус. орнитол. журн. 2001 Экспресс-выпуск № 152
пригородном заказнике “Синичья гора”, теперь очень часто попадались на глаза наблюдателю по берегам Волхова на обеих сторонах Новгорода. Даже в центральных районах города часто приходилось спугивать с наполненных водою воронок от бомб кряковых уток и чирков.
В один из вечеров начала осени кем-то была зажжена на лугах, примыкавших к городу с восточной стороны, трава, совершенно высохшая из-за продолжительной засухи. Эти луга не были разминированы. Море огня и довольно частые взрывы мин подняли с этих мест громадные стаи уток, которые в смятении долго летали над чертою города.
Таким образом, почти полное разрушение зданий, с одной стороны, и исключительное увеличение сорных трав в виде больших по площади и густых зарослей и появление множества мелких заросших водоёмов — с другой, совершенно изменили пернатое население Новгорода, что я отмечаю сейчас в кратком перечне.
Исчезновение дуплистых плодовых и других деревьев и отсутствие искусственных гнездилищ резко повлияло на наличие таких дуплогнездников, как воробьи — полевой Passer montanus и домовой Р. domesticus и мухоловка-пеструшка Muscicapa hypoleuca. Последних, ранее обычных для Новгорода птиц, мне пришлось заметить всего один-два раза. На воробьях в отношении их уменьшения отразилось не только отсутствие удобных мест для гнездования (скворешен, дупел), но и безлюдье в городе. Эти птицы являются первыми спутниками человека.
За время войны мне самому пришлось не раз наблюдать в далёком Заполярье (Карельский фронт): лишь стоило только среди сопок развернуться стационарному госпиталю, как скоро уже здесь появлялось довольно много воробьёв.
В руинах каменных построек я нашёл очень много покинутых уже птенцами гнёзд чеканов-каменок Oenanthe oenanthe и серых мухоловок Muscicapa striata. Взрослые и молодые особи этих видов поражали своей многочисленностью. Особенно много их было на бывших центральных улицах, застроенных большими каменными зданиями, от которых и сейчас осталось довольно много коробок. В них указанные виды весной нашли себе много удобных мест для постройки гнёзд. Удивило меня и гнездование в городе (и в значительном количестве) двух видов пеночек — тень-ковки Phylloscopus collybitus и трещотки Ph. sibilatrix. Как взрослых птиц, так и нынешних слётков можно было наблюдать в значительном числе. Они гнездились в текущем году в пределах города, чего раньше за всё время своих орнитологических наблюдений мне отмечать не приходилось. Наоборот, прежде в густых садах и городском парке не редкостью были гнездящиеся пары пеночек-пересмешек Hippolais icterina. Теперь же эти очень характерно поющие птицы стали в городе большой редкостью, и я зарегистрировал при своих ежедневных обходах пересмешек всего 2-3 раза.
В довоенные годы для производства наблюдений над камышевками приходилось экскурсировать далеко за пределы городской черты, теперь же видеть их и слушать их пение стало возможным не только на заросших жёсткой береговой растительностью набережных Волхова, но и почти во всех пунктах города. В большом количестве встречалась камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus, в меньшем — речная Locustella fluviatilis.
Скажу несколько слов о скворцах Sturnus vulgaris. Эта птица всегда была многочисленна в Новгороде. Но теперь как бы изменился сезонный порядок в их жизни. Обычно, скоро же после весеннего прилёта, скворцы занимали многочисленные, повсюду выставленные для них скворешни и дупла старых деревьев садов и парка. Происходило гнездостроение, откладка яиц, вывод птенцов. Когда птенцы вылетали из гнёзд, они вместе со взрослыми птицами покидали город, и наблюдать их большие стаи можно было только за его пределами. Лишь когда наступал апогей осени, птицы возвращались в город, к местам гнездований (уже в меньшем числе) и в течение продолжительного периода времени можно было вновь слушать их бодрые песни. Незадолго до отлёта скворцы вновь замечались, главным образом, на полях, огородах, откуда исчезали уже до будущей весны.
Теперь картина была совсем иная. Приехав в Новгород уже летом, я не могу сказать, в каком количестве поселились скворцы в разрушенном городе; по-видимому, в меньшем, потому что условия для гнездостроения изменились для них к худшему: дуплистых деревьев почти не стало, а на всей территории города я нашёл только две скворешни. Но со дня приезда пришлось отмечать большие стаи птиц и слушать пение старых самцов. Чем дальше шло время, тем скворцов в городе становилось больше, а стаи их многочисленней. Отдыхая на больших, засохших от пожаров деревьях, скворцы так облепляли собой их сучья и ветви, что издали эти деревья не казались безжизненными, а как бы имели густую чёрную крону листвы. Отовсюду неслось громкое тысячеголосое пение старых птиц и молодёжи, пробующей свои голоса. Во второй половине августа тысячные стаи скворцов в течение всего дня беспрестанно летали по всему городу и только к вечеру, перед заходом солнца, как выяснили систематические ежедневные наблюдения, громадные стаи этих птиц одна за другой покидали город и летели на ночёвку в ЮЮЗ направлении. Осенью, в сентябре и в начале октября, очень редко можно было видеть небольшую стайку скворцов; почти всегда подсчёт численности стаи давал цифру от 500 до 1000 птиц.
Выше я уже упомянул, что трясогузок я встретил в разрушенном городе в исключительно большом количестве. На первых порах эти наблюдения относились, главным образом, к белым трясогузкам Motacilla alba, которые, можно сказать без всякого преувеличения, попадались на каждом шагу, в любой точке города, среди развалин домов, на площадях, улицах и тропинках, вьющихся среди густых зарослей репейника, чернобыльника и иван-чая. На Волхове, на плотах и деревянных дамбах, на полузатонувших фермах взорванного немцами красивого моста мне впервые за всю жизнь пришлось увидеть такое обилие птиц; подсчёт каждый раз давал не десятки, а сотни этих птиц. Сюда их привлекало множество насекомых (подёнок и др.). Узкие плоты были усеяны бегающими по брёвнам птицами; десятки их одновременно взлетали в воздух, чтобы схватить пролетающих насекомых, и снова опускались на брёвна. Много лет я веду орнитологические наблюдения, но в таком масштабе подобного зрелища я ещё не видел. В Рус. орнитол. журн. 2001 Экспресс-выпуск № 152 695
последних числах августа и в первой декаде сентября, во время прогулок по берегам Волхова (опять-таки в пределах города) удалось отмечать аналогичное явление и в отношении жёлтых трясогузок Motacilla flava. Здесь стайки этих птиц, державшихся очень кучно в поисках корма, много раз достигали численности в 50-70 особей — явление также очень редкое.
Весь август, до первых чисел сентября, в городе в очень большом числе наблюдались (в зарослях) сорокопуты-жуланы Lantus collurio, сначала выводками, затем маленькими стайками. До войны жуланы редкими парами поселялись лишь в заказнике “Синичья гора”, в городе никогда не встречаясь.
Овсянки Emberiza citrinella не бывали и раньше редкостью на глухих окраинных улочках Новгорода, попадаясь здесь на глаза наблюдателю с поздней осени до ранней весны. Теперь же мало того, что этих птиц можно было видеть во всех точках города, включая его центральные части, но они наблюдались повсюду в громадном количестве.
Аномально возросла численность обитающих в городе птиц из семейства вьюрков, причём в отношении некоторых наблюдались изменения в календарном ритме их жизни. Возьмём для примера зяблика Fringilla coelebs. Эта птица и до войны в черте города находила себе достаточно гнездовых участков в садах Новгорода. Зяблики всегда были обычной птицей здесь, но часто видеть их можно было только в гнездовой период. После массового вылета птенцов из гнёзд выводки, а затем и соединившиеся в стайки птицы откочёвывали за пределы города, в рощи, на пригородные огороды и т.д., где главным образом и замечались до своего отлёта.
В изменившихся условиях мы видим теперь иное: для массового гнездования в городе зябликам теперь не стало места, т.к. древесные насаждения уничтожены на 90%. Гнездовая пора для них протекла, по-видимому, за пределами города. Но после слёта птенцов зяблики теперь, наоборот, двинулись на кормёжки в город, который своими непроходимыми зарослями сорняков дал птицам прекрасные места и в отношении обилия корма, и в отношении надёжного укрытия от всяких врагов.
Другой вид вьюрковых — коноплянка Carduelis cannabina прежде в городе могла быть отмечена редко, лишь на пролёте. Наблюдать жизнь этих птиц приходилось далеко за пределами Новгорода. Теперь повсюду в городе можно было видеть летающие выводки этих птиц, а затем крупные стаи возмужалых коноплянок.
Два следующих вида — зеленушки Chloris chloris и щеглы Carduelis carduelis — никогда ещё не бывали не только в городе, но и в его окрестностях, так многочисленны, как они стали теперь, особенно осенью 1944 года. В какой бы район города ни пойти, утром ли, среди дня, или вечером,— повсюду можно было сгонять своим появлением с мест кормёжек большие стаи упомянутых птиц, как самостоятельные, так и смешанные. Крики и пение их неслось отовсюду и в то осеннее время, когда большинство других видов птиц прекратили давно свои песни и вообще стали молчаливы. В данном случае обилие зеленушек и щеглов, по сравнению с довоенным городом, объясняется просто: огромные площади лопуха (репейника) стали давать птицам их любимую пищу (семена) в полном изобилии.
Чижи Spinus spinus в городских пределах никогда не гнездились. Появлялись они кочующими стайками в городских садах в августе, т.е. в конце лета. Осенью стайки их становились многочисленными — птицы находили в городе среди садов и зелёных насаждений много берёз, которые давали им в пииту изобильные семена. Не стало теперь в городе для чижей этих кормовых баз, а это сказалось резко на их численности в сегодняшнем Новгороде — наблюдать их пришлось редко, причём стайки в городе не задерживались, а “шли” пролётом.
Не стало совсем дубоносов Coccothraustes coccothraustes, и ранее в Новгороде бывших немногочисленными. Прежде под осень город их привлекал ягодами черёмухи, каковых деревьев было много в городских садах.
Вьюрки северные Fringilla montifringilla объявились ныне 16 сентября, немного раньше своего среднего числа (в среднем за 20 лет —21 сентября), но держались в городе очень недолго. Прежде эта птица в городской черте наблюдалась крайне редко.
Довольно обычным обитателем городских садов, особенно в тех кварталах, которые были отдалены от центра с его оживлённым и шумным движением, являлась горихвостка Phoenicurus phoenicurus, но в настоящее время количество этих птиц нельзя сравнивать с прежним — оно возросло во много раз.
Несколько парадоксальным является и увеличение количества ласточек-воронков Delichon urbica. Гнездятся они, как всем известно, под карнизами и окнами в каменных зданиях. Последние в городе совершенно разрушены, но, видно, и руины представили ласточкам много удобных мест для размещения гнезда, и птицы заселили их плотнее прежнего.
Береговые ласточки Riparia riparia, конечно, никогда в городе не селились, но до войны их гнездовые колонии находились в непосредственной близости от Новгорода. Сейчас они все уничтожены, так как эти места изрыты траншеями, окопами, блиндажами и землянками.
Каменные дома, от которых остались одни коробки без крыш и междуэтажных перекрытий, разбитые, со множеством трещин и щелей, дали удобные для гнёзд места и стрижам Apus apus. Последних пришлось увидеть в разорённом Новгороде намного больше, чем раньше их было. Между прочим, в 1944 году наблюдался самый поздний за последние 25 лет их отлёт, который был отмечен 8 сентября (средняя дата 18 августа). Но эта аномалия уже чисто фенологического порядка.
Перейду теперь к синицам и родственным им по образу жизни птицам. Единственным видом из семейства Paridae, который гнездился прежде в самом городе в небольшом числе,— была большая синица Pams major. Другие виды в поздне-весенний и летний периоды в городе вовсе не замечались; в рощах и садах они появлялись только осенью, когда у них начиналось время перекочёвок. Иные годы различные синицы надолго задерживались в городе и зимой, в случае, когда они здесь находили достаточно пищи. В описанных уже выше условиях разгромленного и разрушенного города изменились и количественные показатели для некоторых видов. По многолетним наблюдениям осеннюю жизнь синиц и некоторых с ними Рус. орнитол. журн. 2001 Экспресс-выпуск № 152
связанных других птиц можно кратко охарактеризовать в следующих этапах. Гнездование, как правило, происходит в лесах. После вывода птенцов (большей частью двукратного) старые и молодые синицы кочуют по лесам сначала выводками, затем стайками. Далее видовые стайки соединяются в смешанные, к ним присоединяются поползни, пищухи. Когда происходит всеобщее запестрение деревьев, стайки начинают приближаться к человеческому жилью, и вот тогда они и появляются в пределах города, заполняя его парки и сады. Прежде всего в городе объявлялись большие синицы, часть которых и вывелась в его пределах. К ним скоро присоединяются представители других видов. Кочёвки этих смешанных стаек в городе продолжались обычно долго, и только с наступлением холодов количество синиц резко уменьшалось, и ряд видов до весны исчезал вовсе. Вот схематический цикл образа жизни и сезонных явлений у синиц.
В 1944 году все виды синиц появились много раньше своих средних сроков, но что представляет главный интерес — в исключительно большом количестве, густо заселив заросли сорных трав, где, очевидно, нашли для себя богатый корм. Большие синицы не только в течение осени, но и зимой (до сего дня) кочуют по городу в чрезвычайно большом количестве, причём часто в течение дня можно видеть кучные стаи их, численностью в 50 и более птиц. Прежде крупными стаями, кочующими в городе, я считал 20-25 птиц.
Синицы-гаечки Pams atricapillus появились в городе в 1944 году очень рано — в первых числах августа. За 25 лет фенологических наблюдений самое раннее начало кочёвок гаек отмечено было мною в 1933 году — 26 августа, средняя же дата для этого явления падает на 8 сентября. Если большие синицы поразили привычный глаз орнитолога-наблюдателя своей многочисленностью, то гаечки наблюдались в конце лета и всю осень в таком исключительно большом числе, которого мне при постоянной практике количественного учёта птиц ещё замечать не приходилось. В течение нескольких месяцев, несмотря на изменения метеорологических условий, никакой амплитуды в численности этих птиц отметить не пришлось.
Прочие виды синиц — московки Pams ater, лазоревки Р. coemleus, длиннохвостые синицы Aegithalos caudatus провели свои кочёвки в пределах города в близких к довоенным годам численных масштабах. Несколько меньше обычного наблюдались за осень последние два вида, как более связанные при своих кормёжках с деревьями, которых осталось, как упомянуто выше, очень немного.
Пришлось при экскурсиях по разрушенному Новгороду отмечать в записной книжке и единичных князьков Pams cyanus — синицу, чрезвычайно редко попадающуюся в Новгородском крае.
Особый интерес представляет собою исключительно массовое появление в Новгороде поползней Sitta еигораеа. Они появились в городе со второй половины августа, много раньше своей средней даты (14 сентября). Хотя в Новгородском фенологическом календаре у меня имеются и более ранние даты их осенних перекочёвок (например, 9 августа 1937 г.), но в 1944 году они появились сразу в очень большом числе. Здесь мне хочется подчеркнуть именно совершенно необычайное изобилие в городе этих птиц, буквально заполнивших его. Ежедневно, с половины сентября и почти до конца года, в какую бы часть города не пойти, везде можно было увидеть этих шустрых птиц и слышать их громкие посвисты. Самое интересное в том, что, как бы вопреки своей биологии, поползни десятки раз наблюдались, во-первых, не в одиночку, а небольшими стайками (в 5-7 птиц), во-вторых, очень часто не на деревьях (всё же сохранившихся в небольшом числе на некоторых улицах, в городском парке), а на земле — на исковерканных обстрелами мостовых, панелях, уличных дорогах. Приходилось видеть их, довольно ловко передвигающихся, не раз на площади в Кремле в сообществе с воробьями.
Массовое появление поползней в городских садах было отмечено в 1921 году (тогда же покойный Д.Н.Кайгородов писал мне, что и в Лесном их появилось очень много). Добавлю о том, что в 1921 году это были почти без исключения “Sitta uralensis”. Ныне также было больше uralensis, чем нашего обычного S. е. еигораеа. В заключение скажу, что обилие поползней в городе было настолько бросающимся в глаза явлением, что его подмечали не только люди, присматривающиеся к окружающей их природе, но и совершенно равнодушные к ней.
Несколько большими и не совсем обычными были кочёвки крапивников Troglodytes troglodytes — птицы часто попадались стайками в 4-6 птиц.
Гибель в Новгороде древесной растительности сильнее сказалась на корольках Regulus regulus, на пищухах Certhia familiaris и, наконец, на представителях дятловых. Их теперь стало осенью в Новгороде меньше, чем в довоенные годы, но одновременно с этим нужно отметить, что нынче пришлось впервые зарегистрировать неоднократное появление Dryocopus таг-tius. Никогда ещё, по личным наблюдениям, чёрный дятел сюда не залетал — город отпугивал его своим шумом, уличным движением.
Вырубка кустарников и гибель их от других причин в садах, скверах и т.д. очень уменьшило число славок (Sylvia atricapilla, S. borin'), а серую славку или говорунчика S. communis и совсем не пришлось теперь зарегистрировать, несмотря на тщательные её поиски.
Вырубка таких древесных пород, как боярышник, рябина, калина, лишили мест кормёжек прилетающих к нам осенью свиристелей Bombicilla garrulus, которые сейчас не задерживались в городе и встречались в нём очень редко.
Наконец, небольшие изменения в связи с разрушением города, а также со слабой его населённостью, произошли и отмечены и для Corvidae.
Из врановых птиц, не говоря о появлявшейся в заметном числе с осени серой вороне Corvus cornix, обычными и многочисленными обитателями города до войны были галки Corvus monedula и грачи С. frugilegus. Разрушения в городе зданий, лишив галку удобных и привычных мест для постройки гнёзд, уменьшили теперь число этих птиц, а гибель от обстрела грачиных колоний сократила в настоящее время и число грачей, живущих в городских парках и рощах.
Более интересны наблюдения над воронами Corvus corax. Прежде эту птицу можно было отмечать только зимою на городских свалках, расположенных сразу же за чертой города. Теперь ворон стал самой обычной птицей даже в центре города, причём любопытнее всего то, что очень часто этих птиц можно видеть не одиночными экземплярами или парами, а по 57 птиц, летающих вместе.
В середине зимы в городе появились в большом количестве сороки Pica pica, в то время как прежде они осмеливались изредка появляться только на окраинах самых глухих улочек у внешней границы городской черты.
Безлюдье в городе, с одной стороны, обилие добычи — с другой, привлекли сюда дневных и ночных пернатых хищников, часты стали ястреба, различные соколы, луни, а из сов — Strix aluco, Asia flammeus и даже изредка замечались Asia otus.
В заключение своего беглого очерка укажу ещё о появлении некоторых млекопитающих в городе, прежде для него необычных. Во всех пунктах города стали постоянно наблюдаться мелкие полевые грызуны. Домовые же мыши и крысы размножились в невероятном количестве, но это явление в настоящее время характерно не только для разрушенного Новгорода, оно наблюдается повсюду, в том числе в глубоко-тыловых, нетронутых войной городах. Для Новгорода интересней отметить ещё появление, даже в центральных участках города, горностаев, а с наступлением зимы и многочисленных зайцев.
Как изумительно быстро дикая природа заполнила своими представителями и растительного и животного мира город, как только он был разрушен и почти покинут людьми.
Новгород был занят немцами в конце августа 1941 года. Ко времени оставления его нашими войсками город уже на 60-70% был разрушен фугасными и зажигательными авиабомбами и огнём дальнобойной артиллерии. Сорные травы начали захватывать себе участки только в 1942 году, полное заселение ими города произошло в 1943 году. По-видимому, только в этом году, благодаря изобилию указанной растительности, давшей приют многочисленным в свою очередь насекомым, столь широкое распространение получили и описанные выше многие виды птиц. В дальнейшем же, начиная с 1945 года, в связи с постепенным восстановлением Новгорода и увеличением его населения, придётся наблюдать обратное явление: сорная растительность будет систематически уничтожаться, пропадут благоприятные условия гнездования и кормёжек для многих птиц, а отсюда богатое пернатое население вновь начнёт количественно сокращаться, а часть видов покинет снова город навсегда.