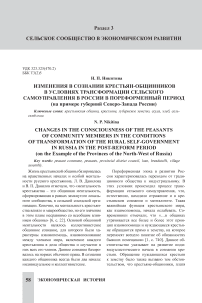Изменения в сознании крестьян-общинников в условиях трансформации сельского самоуправления в России в пореформенный период (на примере губерний северо-запада России)
Автор: Никитина Наталья Павловна
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Сельское сообщество в экономическом развитии
Статья в выпуске: 1 (16), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья анализирует процессы изменения крестьянского менталитета в условиях перехода от традиционного общества к промышленному развитию, рассматривает процесс взаимодействия между коллективистскими и индивидуальными тенденциями в пределах крестьянина мира. )
Крестьянская община, крестьяне, губернское земство, ссуда, хлеб, сельский сход
Короткий адрес: https://sciup.org/14723616
IDR: 14723616 | УДК: 323.325(470.2)))
Текст научной статьи Изменения в сознании крестьян-общинников в условиях трансформации сельского самоуправления в России в пореформенный период (на примере губерний северо-запада России)
Жизнь крестьянской общины базировалась на нравственных началах и особой ментальности русского крестьянина. Л. В. Данилова и В. П. Данилов отмечали, что «ментальность крестьянства – это общинная ментальность, сформированная в рамках замкнутого локального сообщества, в сельской соседской организации. Конечно, на ментальность крестьянства влияло и макрообщество, но его значение в этом плане несравнимо со всеобщим влиянием общины» [6, с. 22]. Основой общинной ментальности являлось коллективистское общинное сознание, для которого были характерны взаимопомощь, взаимопонимание между членами мира, включение каждого крестьянина в дела общества и соучастие в них всех его членов. Данное сознание базировалось на нормах обычного права. В сознании каждого общинника всегда были два начала: индивидуальное и коллективистское.
Пореформенная эпоха в развитии России характеризовалась переходом от традиционного общества к индустриальному. В этих условиях происходил процесс трансформации сельского самоуправления, что, естественно, находило отражение и в крестьянском сознании и менталитете. Такая важнейшая функция крестьянского мира, как взаимопомощь, начала ослабевать. Современники отмечали, что «…в общинах утрачивается все более и более этот принцип взаимопомощи и нуждающиеся крестьяне обращаются прямо к земству, на которое переносят всецело понятие об обязанностях бывших помещиков» [1, с. 740]. Данное обстоятельство указывает на развитие индивидуалистического начала в сознании крестьян. Обращение нуждающихся крестьян к земству было также вызвано тем обстоятельством, что крестьяне-общинники, платя различные повинности, в том числе и земские, считали себя вправе требовать от земства помощи. Так, 1894–1895 гг. выдались неурожайными в России. Многие крестьяне Псковской губернии обращались с прошениями к губернским властям о выдаче ссуды на хлеб. Описывая свое «…крайне печальное безвыходное положение», они указывали на уменьшение количества скота с 10–12 коров до 2–3 коров и лошадей с 3–4 до 2, так как остальные проданы для покупки хлеба, на отсутствие дополнительных заработков. Однако земский начальник, который провел проверку указанных в прошениях фактов, отмечал, что «…посторонние заработки есть… и поденная плата не снижается, следовательно, возможность заработать зависит от просителей» [2, л. 142]. Кроме того, выяснилось еще одно обстоятельство, что крестьяне, испрашивающие ссуду хлебом, «…не выдаются бедностью, а по исправности платежей, повинностей и засыпки – лучшие» [2, л. 143]. Данная ситуация свидетельствует, с одной стороны, о нежелании крестьян разорять общину, а с другой – о сохранившейся еще в крестьянской среде привычке иметь «покровителя»: во времена крепостничества – в лице помещика, а теперь – в лице государства и земства.
В пореформенный период в мировоззрении крестьян сильны были коллективистские начала. По их мнению, все стороны жизни крестьянина должны быть направлены на обеспечение счастья и спокойствия общины, что является залогом благополучия каждой семьи. Крестьянин всегда воспринимал себя частью общества, своего мира. Общинные начала по-прежнему преобладали в сознании крестьян. Все свое поведение, образ жизни крестьянин соотносил с жизнью общины. Оценка «миром» всего, что происходило внутри крестьянского двора, была важна для каждого отдельного крестьянина. Такая оценка проявлялась как в устной форме, так и в решениях сельских и селенных сходов, а также волостных судов, которые принимались на основе норм обычного права. Мнение общества о поступках каждого его члена не только имело значение в информационнооценочном плане, но и влекло за собой материальные последствия.
Источники практически не фиксируют оценку «миром» каких-либо нарушений со стороны своих членов. Однако в материалах обследования волостных судов встречается упоминание о том, что до рассмотрения дела в волостном суде крестьяне прибегают к суду сельского схода, стариков, соседей, например, в Устуевской волости Череповецкого уезда, Волокославской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии [13, с.722]. В той же Волокославской волости комиссия под председательством М. Н. Любощинского зафиксировала факт решения большого количества дел в сельском обществе посредствам суда стариков, однако данные решения нигде не фиксировались [13, с. 744].
В приговорах сельских сходов оценка общиной действий членов звучит и даже подкрепляется решениями. Примером служит решение сельского схода Борисовского сельского общества Псковской губернии, лишившего права наследства крестьянина Степана Яковлева за то, «…что он поведения был не благопристойного» [3, л. 2]. Такое поведение выражалось в систематическом пьянстве и неповиновении отцу.
Материалы решений волостных судов Северо-Запада России, относящиеся к 70-м гг. XIX в., также отражают оценку крестьянами поведения членов сельского общества. В частности, в 1871 г. волостной суд Ракомской волости Новгородского уезда приговорил крестьянина А. к 20 ударам розгами за «злообычность пьянства». Кроме данного решения, «…в книге Ракомского Суда усматривается значительное число решений, коими по заявлению сельских Старост о нетрезвой жизни и растрате хозяйства целый ряд крестьян приговаривается к наказанию розгами от 10 до 20 ударов» [13, с. 714].
Осуждению обществом подвергалось не только пьянство, но и семейные раздоры. Например, Ягановский волостной суд Череповецкого уезда Новгородской губернии в 1871 г. дважды рассматривал дело о семейных раздорах, одино из которых было решено методом «вразумлением мужа» [13, с. 727]. Данным судом была рассмотрена жалоба крестьянки А. на мужа, который «… бьет и гонит ее из дому. Ответчик объяснил, что жена нерачительна. Суд постановил: дозволить супругам разделиться, с тем чтобы муж обязался дать жене и дочери необходимое пропитание» [13, с. 727].
Обращение крестьян в волостной суд, а не только апелляция к сельскому сходу фиксирует трансформацию сельского самоуправления в пореформенный период. Волостной суд как часть крестьянского самоуправления юридически был оформлен «Общим положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». В тоже время традиция обращения к суду стариков или «миру» остается достаточно сильной в крестьянской среде.
В соответствие с «Общим положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» община получила право смены домохозяина, не справлявшегося со своими обязанностями. В пореформенный период такие факты фиксируются редко. П. Зиновьев, давший описание общины деревни Борок Псковской губернии, отмечал, что «…мир оказывает влияние на выбор большака в семье… иногда даже ставит большаком сына над отцом» [11, с. 328]. Среди причин смены домохозяина отмечались следующие: неисправление обязанностей перед общиной, дурное обращение с членами семьи. Однако чаще общество после применения увещевательных мер (устное убеждение на сходе, порка розгами) обращалось с просьбой в высшие инстанции об удалении неблагонадежных членов. Например, крестьяне Малогородского сельского общества Порховского уезда Псковской губернии составили приговор об удалении из общества крестьянина Павла Сидорова «…как зловредного и опороченного» [4, л. 22]
Бесспорно, однако, что в пореформенное время в общине развивались новые отношения, которые, по сути, были противоположны коллективистским. Это, например, стремление к выходу из общины и вообще индивидуалистические тенденции. Они явились результатом развития новых капиталистических отношений в сельском хозяйстве и, как следствие, социального расслоения деревни. Это проявлялось и в ломке старых устоев, и в укреплении индивидуалистических начал, и в семейных разделах. Семейные разделы происходили фактически, и сельский сход утверждал их задним числом. Очень многие сторонники общинного землепользования отрицательно относились к семейным разделам, рассматривая их как главную причину упадка в сельском хозяйстве и как результат нравственного разложения общины. Например, священник Псковской губернии Торопецкого уезда Н. Алмазов описывает этот процесс так: «И вот затрещала связь изб; заревели жалобно разлучаемые коровы; полоса, на которой свободно поворачивалась пара лошадей, делается настолько узкой, что одной бороне повернуться негде. В печальном финале – христарадная сума и просьба правительственной помощи – грустная картина» [14, с. 331]. Многие земства также видели в семейных разделах причины упадка сельского хозяйства. Например, Петербургское губернское земство в 1881 г. просило «…об установлении законом правила, по которому при жизни отца дети не имели бы права требовать раздела семьи, ибо обязанность законодательной власти – заставить уважать семейное начало и родительскую власть и не подрывать их установлением разделов по воле общества» [9, л. 159 об.] Несмотря на упомянутые отрицательные последствия семейных разделов, крестьяне интуитивно понимали, что приостановить их не представляется возможным, и закон от 18 марта 1886 г. об ограничении семейных разделов не имел желаемых последствий.
Увеличение количества семейных разделов на Северо-Западе было связано с тем, что вследствие избытка рабочих рук довольно значительное число крестьян отправлялось на отхожие промыслы. Причем в основном это были не домохозяева, а молодые члены их семейств. Доходы от таких заработков позволяли отходникам впоследствии отделяться от родственников. Следствием семейных разделов становились количественные и качественные изменения в составе сельских сходов. Сельский сход вырастал количественно из-за увеличения числа домохозяев. Качественные же изменения заключались в том, что в состав схода входили новые, относительно молодые домохозяева, которые имели несколько отличные от предыдущего поколения представления о жизни. Многие местные исследователи, в их числе И. Красноперов, отмечали, что эти люди «…возвращаются к своим пенатам совершенно преобразованными. Возвращение их вносит в деревенскую жизнь начало развращающее и индивидуальное, личное» [7, с. 268]. Изменения в составе сельских сходов в пореформенный период связано не только с участием в них молодого поколения «отходников», но и с появлением в них женщин, которые представляли своих мужей в случае их длительного отсутствия, когда в семье не оставалось взрослых лиц мужского пола. Это довольно положительное явление, так как расширяло состав лиц, имеющих право участия и голоса в сельском сходе.
Для пореформенного времени на Северо-Западе России характерна тенденция, связанная с падением в глазах крестьян авторитета сельского старосты, который иногда воспринимается как проводник интересов государства и возрастанием роли зажиточных крестьян – кулаков. Данное обстоятельство крестьяне Лушинской общины Новгородской губернии объясняли следующим образом: «Старосты сменяются, а богатый мужик завсегла с нами, деньги понадобятся к нему идешь» [10, л. 22]. Таким образом, роль «ка-питалитых» крестьян в принятии решений «миром» значительно возросла и именно они в крестьянском сознании являлись главными хозяевами сельского общества.
В пореформенный период наблюдался факт ухода одного из членов крестьянской семьи, иногда даже домохозяина, из сельского общества с целью заработка. Чтобы земля не пустовала, крестьяне или селенной сход сдавали ее в аренду. В сознании крестьян, такие отходники не имели права на землю, и отношение к ним со стороны «мира» было отрицательным, а в случае их возвращения – даже настороженным.
Групповое сознание крестьян всегда было связано с обычаями и традициями конкретной общины, ее неписаными законами и моралью. Однако оно воспринималось далекими от крестьянства людьми как нечто похожее на насилие над личностью. Например, Гдовский комитет о нуждах сельскохозяйственной промышленности Петербургской губернии отмечал, что «…в нравственном отношении община так же имеет очень дурное влияние, выражающееся в порабощении и обезличивании членов ее» [12, с. 239]. В то же время священник Торопецкого уезда Псковской губернии Н. Алмазов подчеркивал значимость коллективистского начала, характерного для общины, которое «…предохра-няло крестьян от изолированности и черствого эгоизма, вселяет в них христианский дух единения и братства» [14, с. 329].
Действительно важным элементом в формировании нравственных понятий крестьян являлась религия. Именно на православных традициях базировался нравственный идеал русского крестьянина. Коллективизм покоился на серьезной оси – соборности церкви. Церковь играла не последнюю роль в жизни общины. Например, крестьяне Заходско-го сельского общества Псковской губернии выступили с инициативой о строительстве церкви-школы вблизи их селения, указав на неоценимость ее в религиозно-нравственном отношении [5, л. 16]. Заходское сельское общество бесплатно выделило землю под церковь, утвердило денежный сбор, взяло на себя расходы, связанные со строительством и содержанием церкви-школы. Крестьяне материально поддерживали церковь. Это проявлялось в том, что в смету расходов волости входили и траты на религиозные потребности: крестный ход, содержание и пособие притчу, жалованье просвиру, старосте, сторожу, ремонт церкви. Помимо этого, каждое сельское общество часть мирских денег тратило на обеспечение религиозных потребностей своих членов. Например, в Петербургской губернии эта сумма составляла 17,8 % всех расходов сельского общества. Ежегодно крестьяне устраивали церковные помочи. Обычно такие помочи крестьяне общин одной волости проводили по очереди. Помощь оказывалась при заготовке дров для отопления, ремонте здания и т. п.
Школа также оказывала значительное влияние на жизнь общины, давая возможность обучения грамоте молодому поколению крестьян. В Лужском уезде Петербургской губернии «…сельские общества сами стараются открывать новые школы и обращаются за содействием к земству» [8, с. 268]. В крестьянской среде укрепилось мнение о значимости школы и образования для жизни и занятия сельским хозяйством.
Постепенно общинные отношения, основанные на коллективизме и опыте предков, начали ослабевать, и в крестьянской среде росло альтернативное индивидуалистическое настроение. Закономерно, что противоборство этих двух начал в пореформенное время приводило к конфликту между «миром» и теми общинниками, которым были близки новые индивидуалистические традиции. Некоторые из них вовсе стремились к выходу из общины. К ним «мир» относился неоднозначно. Благосклонно общество относилось к безземельным членам, желавшим покинуть его ряды. В то же время община пыталась удержать тех членов, которые пользовались надельными землями, прежде всего с целью сохранения платежеспособности хозяйства. Кроме того, для выхода из общины таким крестьянам, кроме решения сельского схода, требовалось выполнение следующих условий: отсутствие задолженности по всем видам платежей, погашение выкупной ссуды. Крестьянин, желающий выйти из состава общества, не мог состоять под следствием и судом. Самое главное условие заключалось в том, что крестьянин в случае выхода из общины обязан был сдать надел земли в фонд общества безвозмездно. Такие условия явно затрудняли выход крестьян из общины и в какой-то мере способствовали ее консервации. В пореформенный период процесс развития капиталистических отношений в деревне лишь набирал темпы. Будущее было туманно, поэтому даже чисто психологически часть крестьянства предпочитало держаться за общину, чем броситься в омут неизвестности.
Таким образом, в пореформенный период основы мирской жизни были довольно сильны в крестьянской среде, хотя под воздействием отходничества, проникновения в крестьянскую среду капиталистических отношений шел процесс изменения мировоззрения и нравственности в крестьянской среде. Эти изменения были связаны прежде всего с личностными началами, которые в общине всегда уходили на второй план по сравнению с коллективными. Но это было лишь тенденцией, а не широкомасштабным явлением.
В жизни крестьянина всегда были сильны традиции, нравственные основы предыдущих поколений, строящиеся на общинном коллективистском начале, и за одно поколение изменить их кардинально было невозможно.
Список литературы Изменения в сознании крестьян-общинников в условиях трансформации сельского самоуправления в России в пореформенный период (на примере губерний северо-запада России)
- Данилова, Л.В., Данилов, В.П. Крестьянская ментальность и община//Менталитет и аграрное развитие России (XIX -XX вв.). Материалы международной конференции. -М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1996. -440 с.
- Вестник Псковского губернского земства. 1884. № 47
- Государственный архив Псковской области (далее -ГАПО). Ф.20. Оп.1. Д.2518.
- Труды комиссии по преобразованию волостных судов. Т.6. -СПб.: Тип. Второго отдела Собств. Е.И.В. канцелярии, 1874. -754 с.
- ГАПО. Ф. 78. Оп.1. Д. 78.
- Сборник материалов для изучения сельской поземельной общины. Т.1 -СПб.: Тип. А.М. Вольфа, 1880. -393 с.
- ГАПО. Ф. 202. Оп.2. Д. 52.
- Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. XXXIII. Псковская губерния. -СПб.: Тип. Гольберга, 1903. -349 с.
- Российский государственный исторический архив (далее -РГИА). Ф.93. Оп.2. Д. 792.
- Красноперов, И. Поземельная община в Крестецком уезде//Русская речь. 1880. -Май, год второй. -С.263-285
- Свод трудов местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности (губернии, состоящие на великороссийском положении) по вопросу о крестьянском землепользовании/Состав. П.П. Семенов. -СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1905. -295 с.
- РГИА. Ф.91. Оп.2. Д. 774.
- ГАПО. Ф.159. Оп. 1. Д. 46.
- Материалы для изучения современного положения землевладения и сельскохозяйственной промышленности в России. Вып. I. -СПб.: Тип. Трении и Фюско, 1880. -93 с., 312 с. Приложения.