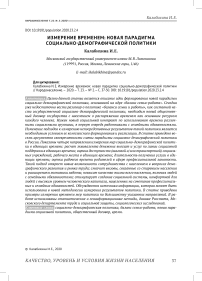Измерение временем: новая парадигма социально-демографической политики
Автор: Калабихина Ирина Евгеньевна
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Качество, уровень и условия жизни населения
Статья в выпуске: 2 т.23, 2020 года.
Бесплатный доступ
Целью данной статьи является описание идеи формирования новой парадигмы социально-демографической политики, основанной на ядре «баланс семья-работа». Сегодня уже недостаточно вести разговор о политике «баланса семьи и работы», как составной части государственной социально-демографической политики, необходим новый общественный договор государства с населением о распоряжении временем как основным ресурсом каждого человека. Нужен новый социальный контракт по использованию времени различными социальными группами, в первую очередь работниками с семейными обязанностями. Изменение подходов к измерению непосредственных результатов такой политики является необходимым условием ее комплексного формирования и реализации. В статье приведено восемь аргументов своевременности смены парадигмы социально-демографической политики в России. Показаны четыре направления измерения мер социально-демографической политики в единицах времени: расчет эквивалента денежных выплат и услуг по линии социальной поддержки в единицах времени; оценка доступности (шаговой и/или транспортной) социальных учреждений, рабочего места в единицах времени; длительность получения услуги в единицах времени; оценка рабочего времени родителей в сфере профессиональной занятости. Такой подход откроет новые возможности сотрудничества с населением в вопросах демографического развития и рынка труда; смягчит вызовы, связанные со старением населения и расширением экономики заботы; повысит качество жизни всего населения, включая людей с семейными обязанностями; стимулирует создание социальной системы, комфортной для людей с высоким уровнем человеческого капитала, нацеленных на сочетание профессиональных и семейных обязанностей. Обсуждаются источники информации, которая может быть использована в новой методологии измерения результатов политики. В статье приведены примеры измерения временем мер политики по большинству указанных направлений. В работе использованы статистические и геоинформационные методы, данные Росстата, Московского департамента труда и социальной защиты, социологических исследований.
Социально-демографическая политика, баланс семья-работа, новая парадигма социальной политики, общественный договор, время
Короткий адрес: https://sciup.org/143173647
IDR: 143173647 | DOI: 10.19181/population.2020.23.2.4
Текст научной статьи Измерение временем: новая парадигма социально-демографической политики
На наших глазах мир быстро меняется. Экономика будущего и наша повседневная жизнь будут зависеть от новых технологий, которые уже породили такие понятия, как «умный дом», «интернет вещей», «искусственный интеллект» и подобные. И в России объявлен курс на развитие цифровой экономики1, что подтолкнет быстрое внедрение технологий в нашу повседневную жизнь. Дистанционные трудосберегающие технологии создают условия для новых моделей сочетания профессиональных и семейных обязанностей, позволяют экономить время на перемещениях в пространстве, на работе в домашнем хозяйстве. Среда обитания также меняется интенсивно (урбанизация и концентрация населения, рост агломераций), ускоряя ритм жизни, повышая цену времени и создавая дефицит времени для человека. Стремление к экономии в разрастающейся городской среде создает риск отдаления повседневных объектов жизнедеятельности от человека. В условиях разного качества и конфигурации инфраструктурных сетей время может стать мерой расстояния до жизненно важных объектов для человека.
Рынок труда предлагает новые модели и режимы занятости, растет гибкость, интенсивность, конкуренция, неопределенность. Увеличивается число контрактов с нулевыми часами, неполная занятость, самозанятость. Чтобы выдержать конкуренцию, работники постоянно находятся в режиме «онлайн», в том числе в выходные дни, во время отпуска, по дороге на работу и с работы. Отвечая на электронную почту в пути, мы работаем больше (или получаем меньше), чем записано в контракте. Никто не платит за трафик, работу и постоянную готовность ответить на электронную почту. Жесткое деление рабочего и нерабочего времени перестало существовать. Ярким примером является рост нагрузки на преподавателей в период перехода на онлайн-обучение, связанный с коронавирусом в 2020 году. Становится важным определиться в этих новых условиях, сколько и как мы работаем, отдыхаем, занимаемся ведением домашнего хозяйства и экономикой заботы (уходом за детьми, престарелыми и нуждающимися членами семьи). Разговор о пределах рабочего времени должен закончиться новыми трудовыми правилами и нормами.
На стареющие рынки труда во всех странах приглашают новые социальные группы в качестве трудового резерва: где-то женщины стали таким резервом (домохозяйки Японии, арабские женщины), где-то — люди с инвалидностью и пенсионеры. Но женщины с маленькими детьми, инвалиды и пенсионеры — это люди с дефицитом времени или с ограниченной мобильностью, для которых следует продумывать не только специфику рабочих мест, а условия для распределения времени между домом и работой, между дорогой на работу и самой работой. И вновь это область управления временем. Описанные изменения в значительной мере перестроят наши бюджеты времени. Социально-демографическая политика должна учитывать эти изменения и поддерживать спрос населения на новые меры в условиях меняющейся реальности. Это не только вопросы, тесно связанные с задачами повышения рождаемости, но и вопросы охраны здоровья людей в условиях размывания границ времени между работой и семьей и растущим ритмом жизни, а также вопросы производительности труда и новых организационных технологий.
Итак, нас ждет кардинальное изменение образа жизни в ближайшей перспективе. Технологические изменения, концентрация населения и рост агломераций, рынок труда и новые потребительские модели меняют наш образ жизни. Как это коснется социально-демографической и семейной политики? Ответ лежит в расширении политики, балансирующей время человека в семейной и профессиональной сфере или, как было принято писать ранее, политики «сочетания профессиональных и родительских обязанностей». Но семейная жизнь шире родительских обязанностей — это и уход за пожилыми, и ведение домашнего хозяйства, и досуг, и развитие членов домохозяйства. В статье применяется короткий термин «баланс семья-работа». Для аргументации выдвинутых предложений использованы статистические и геоинформационные методы, данные Росстата, Московского департамента труда и социальной защиты, социологических исследований.
Обзор литературы об использовании социально-экономической категории «время»
Время является экономической и социальной категорией. Известные представители экономических школ оперировали данной категорией в своих трудах. Для К. Маркса время — критический аспект классовой борьбы и теории прибавочной стоимости, в рамах которой он подробно разбирает вопросы пределов рабочего дня, измеряет степень эксплуатации рабочих временем [1]. Нобелевский лауреат Т. Щульц в 1960–1979 гг. вносит вклад в теорию человеческого капитала, в целое научное направление — экономику семьи. Среди факторов, влияющих на рождаемость и брачность, он называет трудосберегающие технологии, рост цены времени женщины [2]. Нобелевский лауреат Г. Беккер — автор трудов о распределении времени в домохозяйстве [3], строит модель, в которой индивиды используют время наряду с другими ресурсами при производстве благ и услуг, создавая семейный капитал [4]. Идеи Беккера о производстве внутри домашнего хозяйства развивал Р. Гронау [5].
Советские экономисты изучали вопросы измерения общественного тру- да затраченным временем и подчеркивали важность учета времени, расходуемого на производство товаров и услуг внутри домашних хозяйств. В 1920–1930 гг. С. Г. Струмилин [6] провел первые обследования бюджетов времени различных групп населения, выдвигал положение об общественной стоимости воспроизводства рабочей силы, настаивая на необходимости учета домашнего труда. В 1950– 1960 гг. Г. А. Пруденский [7] разработал методику изучения использования времени работающим населением, которая включала внерабочее время. В 1970–1990 гг. В. Д. Патрушев и коллеги [8] вводят в практику исследования бюджетов времени субъективные оценки условий его использования. Н. М. Римашевская и коллеги [9; 10] глубоко исследуют время, затраченное на ведение домашнего хозяйства и свободное время.
Распределение времени индивидами между различными видами деятельности и количество времени, затрачиваемого на ведение домашнего хозяйства и уход за членами семьи выступают детерминантами человеческого капитала, демографического поведения, качества жизни людей в разных возрастных группах [11; 12; 13; 14]. Качество жизни тесно связано с объемом свободного времени, которым мы распоряжаемся. В современные индексы качества жизни включают переменную располагаемого времени досуга [15; 16].
Не только экономисты используют категорию «время» в базовых теоретических конструкциях. Для Э. Дюркгейма [17] время — социальная рамка и коллективный ритм жизни. М. Вебер [18] рассматривает социальное действие в границах времени, Т. Ченг [19] пишет об экологии социального времени. Становится понятно, что стиль потребления времени определяется институтами, спрос на время возникает в процессе действия, время определяет разделение силы и власти [20]. В концепциях гендерных институтов П. Макдональда [21] и гендерного перехода И. Кала-бихиной [22] в качестве драйвера демографических изменений выступает измене- ние степени гендерного равенства, а главным индикатором этих изменений является использование времени на труд в общественной и домохозяйственной сферах. В институциональном подходе, описывающем тип общественного договора в гендерном фокусе, классификация контрактов базируется на степени сочетания (или отсутствии сочетания) общественного и домашнего труда [23].
В течение жизненного цикла семьи возникают периоды дефицита времени при появлении детей. Женщины в целях компенсации дефицита времени для заботы о маленьких детях сокращают свое время на сон и досуг [24]. В современной России значимый эффект на распределение домашних обязанностей между партнерами оказывают наличие и возраст детей, а также состояние здоровья, статус и режим занятости, вклад женщины в общие доходы, применение в домохозяйстве трудосберегающих технологий, наличие других членов домохозяйства, малое число жилых комнат и размер населенного пункта [25]. Известный факт — сокращение времени досуга и увеличение времени, затрачиваемого на ведение домашнего хозяйства и экономику заботы, влияет на репродуктивные установки современных женщин. Соответственно, демографические перспективы страны в области рождаемости тесно связаны с распределением бюджетов времени в домохозяйствах разного типа. Политика, направленная на достижение комфортного для населения баланса между семейными и профессиональными обязанностями, в Евросоюзе в значительной степени подменила собой всю семейную политику — при прочих равных условиях рождаемость будет выше в странах, имеющих более успешную политику баланса семья-работа [26; 27; 28].
Назрело время нового договора о распределении времени в повседневной жизни
Перемены в технологиях, социально-экономической среде, образе жизни за- ставляют вернуться к вопросу о времени и его использовании различными социальными группами. Назрело становление нового общественного договора власти, бизнеса, населения — договора об измерении и распределении времени людьми в повседневной жизни. Исследование экономики домохозяйства и экономики заботы сегодня оперирует понятием времени как ресурса. Но современные реалии требуют учета времени и в других направлениях экономико-демографического анализа. Почему сегодня учитывать время особенно важно?
Во-первых, потому, что для населения ресурс времени становится важным фактором качества жизни, собственной успешности. Это осознание приходит в общество с ценностями и стилем жизни постмодерна. В оценку повседневных событий и стратегического планирования собственной жизни мы стали вносить элемент свободного времени, элемент творческого времени и условия для балансирования времени на работу и семью как важные детерминанты нашего благополучия. Социологические опросы начинают отражать это явление. Росстат, например, выявляет, что россияне испытывают неудовлетворенность в том, как социальная политика учитывает фактор ресурса времени в контексте удаленности учреждений, времени предоставления услуг. В исследовании Росстата 2015 г. (Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обеспечения, содействия занятости населения) среди 19% не получивших медицинскую консультацию 11,3% в том или ином контексте говорят про время (ожидание, удаленность, неудобный график работы врачей). В исследовании 2019 г. 66% респондентов, посещавших медицинские учреждения, не удовлетворены длительностью ожидания в очередях. Среди респондентов, отказавшихся от услуг дошкольного образования 18-27% в разные годы говорят про отсутствие учреждений/мест поблизости. Московское исследование «Содействие про- фессиональной занятости женщин с маленькими детьми» [29] показало, что при росте чисел рождений в Москве от 100 до 140 тыс. рождений в год в 2010-х гг. программой повышения квалификации для женщин с детьми до 3-х лет (Указ Президента России № 606 от 2012 г.) пользовались ежегодно в 2013–2016 гг. всего 500– 900 женщин. Причины низкой популярности программы: дефицит времени, недостаточная информированность, содержание программ. Дефицит времени у родителей с маленькими детьми порождает спрос на управление временем на уровне предоставления государственных услуг.
Во-вторых, потому, что эффективность социальной политики все в большей степени будет зависеть от учета времени, от приоритетов программ «подари время» (а не «подари деньги», как сейчас). Отдельный вопрос в рамках нового общественного договора о времени — разработка новой парадигмы социально-демографической политики, одним из принципов которой (а не только одним из направлений) является «баланс семья-работа». Напомним, что в большинстве европейских стран политика баланса «семья-работа» уже проводится, отмечен позитивный эффект на рождаемость мер баланса. Собственно эффект семейной политики измеряется успешностью реализации мер баланса семейной и профессиональной жизни. А это — работа с ресурсом времени населения. Основными направлениями политики «баланс семья-работа» являются: 1) инфраструктура общественной заботы о детях и долгой старости, 2) дружественная среда на рынке труда по отношению к работникам с семейными обязанностями и 3) эгалитарное распределение заботы в домохозяйстве [22].
Причины необходимости смены парадигмы социальнодемографической политики
В России сегодня реализуется материальная парадигма демографической и семейной политики — акцент сделан на де- нежных выплатах семьям с детьми (материнский капитал, различные пособия). Эффективность самой яркой меры (материнского (семейного) капитала) оценивается в 15% роста суммарного коэффициента рождаемости [30]. На третьем этапе мы продолжаем делать акцент на парадигму «материальной поддержки», а не парадигму «подари время». И серьезно рискуем потерять позитивную динамику, поскольку первые два этапа демографической политики были достаточно успешными по ряду причин (и выбранная парадигма — не главная причина). Рост суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни наблюдался с очень низкого старта после отложенных рождений и кризиса смертности 1990-х годов. Помог экономический подъем 2000– 2013 годов. Еще не было привыкания к материальным мерам — сказывалась новизна мер в совокупности с пропагандой семейных ценностей. Текущий и последующий этап демографической политики не имеют этих фоновых факторов. С высоких уровней показателей труднее продвигаться дальше, развивается экономический кризис (санкции, пандемия), наступило привыкание к материальным мерам. Приведу восемь причин, почему в России важно менять подход к социально-демографической политике.
Во-первых, настала пора введения новой яркой меры, если мы хотим продолжать результативную политику. Материнский капитал улучшил демографический климат в стране, но происходит привыкание населения даже к ярким мерам. Нужна новая яркая мера — лозунг «подари время» может стать такой идеей.
Во-вторых, период экономической стагнации и кризисов характеризуется сокращением бюджета на социальную политику, а многие меры новой парадигмы «баланс семья-работа» относительно недороги или их финансирование растянуто во времени.
В-третьих, мы входим в эпоху быстрого старения населения. С 2018 до 2035 г. доля пожилых вырастет с 25% до 29%, а на- селение в возрасте 25–44 года сократится с 31,1% до 22,7% (средний вариант прогноза Росстата 2017 г., более поздние прогнозы не меняют сути тенденций). Это значит, что нужно одновременно поддерживать уровень рождаемости и рынок труда, сохраняя присутствие на нем женщин репродуктивных возрастов.
В-четвертых, в 2020–2035 гг. детское население в дошкольном возрасте сократится с 9% до 7% (в абсолютном выражении — с 13 до 10 млн). Это позволит безболезненно реализовать одно из основных направлений политики «баланс семья-работа» — обеспечение детей дошкольного возраста (в том числе ясельного) местами в детских садах. В настоящее время эта задача решена для детей от 3-х лет, но не для детей ясельного возраста. При грядущем сокращении численности дошкольников обеспечение местами этой возрастной группы — вопрос времени, но не дополнительных вложений в строительство детских садов.
В-пятых, растет вклад зрелого материнства в рождаемость. Если в 1990-е гг. доля женщин в возрасте 35–44 года среди рожениц составляла 5%, то сегодня — более 13%. При этом численность женщин репродуктивного возраста в ближайшие годы будет снижаться, а численность женщин в старших репродуктивных возрастах — расти. Это значит, нужно активизировать меры, комфортные для этой возрастной группы мам. Для состоявшихся женщин такие меры лежат в сфере политики «баланс семья-работа».
В-шестых, в экономике заботы в России, как и в других странах, возник феномен «поколения сэндвич», когда женщины средних возрастов испытывают двойную нагрузку домашним трудом, ухаживая одновременно и за детьми, и за пожилыми родственниками. При неготовности социальной инфраструктуры помочь семьям в такой ситуации вся нагрузка ложится на женщин. Это влияет на их поведение на рынке труда и репродуктивные решения. Развитие инфраструктуры общественной заботы о долгой старости — часть политики «баланс семья-работа». На эмпирических данных [25] подтверждается тезис о незавершенном гендерном переходе [22], когда наряду с экономическими мотивами в распределении домашнего труда сохраняются рудиментные социокультурные мотивы. Высокий уровень занятости и доходов женщин сокращает их участие в домашнем хозяйстве только в будни, но в выходные дни они стремятся компенсировать свою роль главного поставщика домашних услуг для домочадцев. Таким образом, самые перспективные с точки зрения уровня человеческого капитала женщины имеют высокий риск быть перегруженными.
В-седьмых, 2 раза демографическая политика в России «раскачивала качели» чисел рождений: и в 1980-е гг., и в 2000-е гг. политика стартовала на тренде растущей численности потенциальных родителей. Числа рождений за короткий период времени (15 лет) могут различаться до 0,8 млн человек. Это обстоятельство «лихорадит» социальную инфраструктуру и формирует спрос на такие направления политики «баланс семья-работа», как дружественная среда на рынке труда к работникам с семейными обязанностями и эгалитарное распределение заботы в домохозяйстве, поскольку эти меры позволяют расширить горизонт планирования жизненных событий (рождение детей, брак, работа, обучение) по сравнению с краткосрочными материальными мерами.
Восьмая причина — отсутствие альтернативы современной социально-демографической политике в силу структуры жилого фонда России: большая часть квартир являются малогабаритными. Доля жилых единиц с числом комнат менее 3-х составляет в России 63,2% (в Евросоюзе — 20%, США — менее 2%, Казахстане — 54%, Эстонии — 49%). В двух- и однокомнатных квартирах затруднительно принимать решение о рождении второго и третьего ребенка. Количество построенных квартир за период 2000–2012 гг. выросло в 2 раза, но средний размер квартиры вырос только с 81 до 85 м2 в 2000–2009 гг. и упал с 85 м2 до 79 м2 в 2009–2011 годах. В 2012–
2019 гг. строительство малогабаритного (табл. 1). Преимущество последнего типа, жилья наращивалось. на мой взгляд, очевидно.
Можно выделить три альтернативных типа семейно-демографической политики
Таблица 1
Типы социально-демографической политики с точки зрения основного приоритета
Table 1
Types of socio-demographic policy in terms of the main priority
|
Тип политики (основной приоритет) |
«Цена» вопроса |
Ожидаемая эффективность для роста рождаемости |
Примечание |
|
Денежные выплаты. |
Относительно дешево. |
Низкий уровень. |
Воздействует в большей степени на население, для которого зависимость от материальной помощи высока. Есть привыкание населения к этим мерам. |
|
Жилищные программы. |
Дорого. |
Высокий уровень. |
Нужны крепкие институты для реализации этого направления (ипотека и пр.). Нужно время для перестройки имеющейся структуры жилого фонда. Нет привыкания. |
|
«Баланс семья-работа». |
Дешевле всех типов, финансирование растянуто во времени и имеет накопительный эффект. |
Высокий уровень. |
Соответствует установкам молодых поколений. Воздействует на социальные группы с высоким уровнем человеческого капитала. Нет привыкания. |
Источник: составлено автором.
Примеры оценки социальнодемографической политики в единицах времени
Как учитывать время в социальной политике? Рассмотрим некоторые подходы. Начнем с того, где находится информация, которая может быть использована для измерения времени, используемого на разные виды деятельности и его распределения между людьми в домашних хозяйствах, на рабочем месте, в период досуга. Серьезным вкладом в оценку распределения времени и его использования населением вносят обследования бюджетов суточного времени Росстата (2014 и 2019 гг.); Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обеспечения, содействия занятости населения; Комплексное обследование уровня жизни населения и другие периодические обследования. Есть также неправительственные социологические исследования (панельные, лонгитюдные; отечественные и международные), которые могут дать информацию об используемом времени — РМЭЗ НИУ-ВШЭ, Пол и поколение (Gender and Generation) и другие. Колоссальный потенциал у геоинформацион-ных систем. Большое будущее у цифровой информации, отражающей работу систем здравоохранения, образования, социальных служб, городского и междугороднего транспорта.
Важность оценки социально-демографической политики в единицах времени представляется очевидным. Однако перестройка всей системы оценки политики — дело непростое. С чего начать? Выделю несколько основных направлений по измерению политики в единицах времени: 1) расчет эквивалента денежных выплат по линии социальной политики в единицах времени; 2) оценка доступности социальных учреждений (шаговой и/или транспортной) в единицах времени; 3) длительность получения услуги в единицах времени; 4) оценка рабочего времени родителей в сфере профессиональной занятости. Приведу несколько примеров.
Пример 1. Эквивалент денежных вы- плат. Рассчитаем, сколько минут времени няни можно купить на детские и семейные пособия (использованы данные за 2016 г.). В таблице 2 указаны заработные платы государственных и частных нянь, в таблице 3 — размер некоторых федеральных и региональных выплат, связанных с рождением ребенка, в таблице 4 — размер указанных выплат в единицах измерения времени услуг няни. Видно, что
Таблица 2
Заработная плата в системе дошкольного образования, 2015-2016
Wages in the system of preschool education, 2015-2016
Table 2
|
Заработная плата |
Руб./месяц |
Руб./час |
|
Средняя заработная плата. Дошкольное и начальное общее образование, работники, Росстат, октябрь 2015. |
11500 |
69 |
|
Заработная плата няни. Частные услуги в Москве, обзор популярных профильных сайтов, 2016. |
43000 |
270 |
Источники: данные Росстата, информация с сайтов объявлений о найме нянь.
Таблица 3
Некоторые выплаты, связанные с рождением ребенка в 2016 г., рублей
Some payments related to childbirth in 2016, rubles
Table 3
|
Выплаты |
Минимальная граница (или размер) выплат |
Максимальная граница выплат |
|
Единовременное пособие по беременности и родам |
15512,65 |
60892,28 |
|
Москва дополнительно (то же пособие) |
1500 |
4500 |
|
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в месяц |
2908,62 |
21554,82 |
|
Москва дополнительно (то же пособие, адресно) |
1500 |
2500 |
|
Материнский капитал (МК) |
453026 |
- |
|
Региональный МК в Нижегородской области |
25000 |
|
|
Региональный МК в Ненецком АО |
350000 |
- |
Источники: данные федеральных и региональных документов в области семейной и демографической политики.
Таблица 4
Некоторые выплаты, связанные с рождением ребенка в единицах времени, количество дней в услугах государственной и частной няни в 2016 году
Some payments related to childbirth in units of time, number of days in care of public and commercial nanny in 2016
Table 4
|
Выплаты |
Количество дней в услугах государственной няни, Россия |
Количество дней в услугах частной няни, Москва |
||
|
минимальная граница (или размер) выплат |
максимальная граница выплат |
минимальная граница (или размер) выплат |
максимальная граница выплат |
|
|
Единовременное пособие по беременности и родам |
28 |
110 |
7 |
28 |
|
Москва дополнительно |
3 |
- |
1 |
- |
|
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет |
5 |
39 |
1 |
10 |
|
Москва дополнительно (адресно) |
3 |
8 |
1 |
2 |
|
МК |
821 |
- |
210 |
- |
|
Региональный МК в Нижегородской области |
45 |
- |
12 |
- |
|
Региональный МК в Ненецком АО |
634 |
- |
162 |
- |
Источник: расчеты автора.
мама маленького ребенка в Москве даже на федеральный материнский капитал условно может купить всего 210 дней (примерно 10 месяцев) услуг частной няни. А ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет «стоит» 5–39 дней среднероссийской государственной няни или 1–10 дней частной московской няни. Можно сделать матрицу федеральных и региональных выплат, связанных с рождением ребенка, в единицах времени. На этом условном примере видно, что в единицах времени выплаты довольно скромны, не решают задачу компенсации времени матери в такой степени, в которой это необходимо для выхода на рынок труда.
Пример 2. Доступность медицинских и образовательных услуг в регионе (на основе ГИС-программ и геоданных). Анализ транспортной доступности медицинских услуг в Ставропольском крае (Роман Приходько и коллеги, географический факультет МГУ) показал наличие значительного количества территорий с более чем 1,5-часовой доступностью. Социально-демографический атлас Ямало-Ненецкого АО (кафедра народонаселения экономического факультета МГУ для правительства Ямало-Ненецкого АО, 2019 г.) показал время, требуемое медицинской авиации для оказания помощи в населенных пунктах АО.
По материалам исследования «Содействие профессиональной занятости женщин с маленькими детьми» (рук. Калаби-хина И. Е., 2016 г., результаты публикуются впервые) было рассчитано время, которое женщины тратят на поездку от дома до места обучения по программе профессионального обучения и переобучения женщин с детьми до трех лет. На основе данных Московского департамента труда и социальной защиты с использованием карт GOOGLE и программы ARCGIS2 были даны оценки среднего времени, затрачиваемого женщинами с маленькими детьми на дорогу от дома до учреждений с курсами по повышению квалификации.
Затем это время мы сравнили с временем, затрачиваемым в среднем жителями Москвы по пути на работу. Время на дорогу молодых женщин, посещающих курсы повышения квалификации, составило в среднем 66 минут. Тогда как жители Москвы тратят в среднем 55 минут на дорогу от дома на работу. Таким образом, социальная группа с самым большим дефицитом времени тратит на дорогу до образовательного учреждения больше времени, чем средний житель мегаполиса.
Пример 3. Оценка рабочего времени родителей в области профессиональной занятости. Время, потраченное на работу в профессиональной сфере, также должно входить в систему оценки социально-демографической политики в единицах времени. Не только заработная плата, но и «подаренные» часы (дополнительные отпуска, дни, часы для работников с семейными обязанностями) должны быть учтены в комплексной оценке социально-демографической политики с многосторонними участниками (государство, работодатель, некоммерческие организации). В этой связи можно привести оригинальный пример. В условиях неолиберального наукометрического подхода к оценке научной деятельности, который мы переживаем сегодня (учет цитирования, индекса Хирша, число статей) Н. Клокер и Д. Дроздевски посчитали через единицы времени скольких научных статей стоит ребенок [31]. Для регулирования социально-трудовых отношений и одновременно проведения семейной политики это может быть очень ценная информация. Включение некоммерческих организаций и локальных сообществ в систему социально-демографической политики, ядро которой составляет «баланс семья-работа», также необходимо. Пример практического внедрения измерения времени — банк времени локального сообщества, который придумал в 1980 г. Эдгар Кан в США3.
Заключение
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что кардинальные перемены в технологиях, социально-экономической среде, образе жизни являются драйверами формирования новой парадигмы социальной политики, одним из принципов которой является принцип признания времени как основного ресурса человека, а основой семейной и демографической политики становится политика «баланса семья-работа». В этой связи особо следует подчеркнуть два момента. Во-первых, сегодня уже недостаточно вести разговор о политике «баланса семьи и работы», как составной части государственной семейной политики. Необходим новый общественный договор государства с населением о распоряжении временем как основным ресурсом каждого человека. Возможно, стоит говорить не о балансе, а об интеграции времени на семью и работу, поскольку границы между работой и семьей начинают стираться. Во-вторых, всю социальную политику нужно измерять ресурсом времени, которое государство и бизнес может «подарить» людям.
Основные направления по измерению социальной политики в единицах времени: 1) расчет эквивалента денежных выплат и услуг по линии социальной поддержки в единицах времени; 2) оценка доступности (шаговой и/или транспортной) социальных учреждений, рабочего места в единицах времени; 3) длительность получения услуги в единицах времени; 4) оценка рабочего времени родителей в сфере профессиональной занятости. Измерение временем социально-демографической политики откроет новые возможности сотрудничества с населением в вопросах демографического развития и рынка труда [29]; смягчит вызовы, связанные со старением населения и расши- рением экономики заботы; повысит качество жизни населения, включая людей с семейными обязанностями; стимулирует создание системы, комфортной для людей с высоким уровнем человеческого капитала, нацеленных на сочетание профессиональных и семейных обязанностей.
Эта статья дописывалась в дни самоизоляции в апреле 2020 г., когда стало очевидным, насколько быстро может меняться распределение времени при серьезном социальном потрясении, и вновь не в пользу женщин, поскольку нагрузка, очевидно, возрастает в первую очередь у женщин при закрытии сервисных предприятий, при сужении сервисной экономики. При этом потери в доходах и снижение в уровне жизни мы почувствуем через месяц или несколько месяцев (в зависимости от уровня сбережений и типа занятости). А вот растущую нагрузку рутиной домашних дел, часто совместно с растущей нагрузкой, связанной с резким переходом на дистанционный формат работы, мы чувствуем с первых дней самоизоляции. Время, особенно время женщин, является резервом выживания семей в периоды экономических и социальных потрясений. И это всеобщая ситуация в мире, затронутом пандемией. Экономисты говорят о деглобализации, наблюдая нарушение торговых цепочек, а социологи смогут констатировать единую резервную модель выхода из кризиса за счет времени женщин (за исключением немногих стран, добившихся устойчивого адаптивного механизма балансирования семейной и профессиональной сфер человеческой жизни для разных групп населения), что позволяет говорить о возможной глобализации стран в обмене идеями о новом общественном договоре по поводу использования ресурса времени и управления временем в рамках социальной политики.
Список литературы Измерение временем: новая парадигма социально-демографической политики
- Маркс К. Капитал. Том 1, глава 8. // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. Т. 23. — М.: Государственное издательство политической литературы, 1960.
- Schultz T. W. Fertility and Economic Values. Part I: The Value of Children. In T. W. Schultz (ed.). Economics of the Family. Chicago-London. University of Chicago Press. 1974. P. 3-14.
- Becker G.S. A Theory of the Allocation of Time. The Economic Journal. 1965. Vol. 75 (299). P. 493517.
- Becker G.S. A treatise on the family, enlarged edition. Harvard University Press. Cambridge. Massachusetts.1991. 441 p.
- Gronau R. Leisure, home production, and work: The theory of the allocation of time revisited. Journal of Political Economy. 1977. No. 85. P. 1099-1123.
- Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. — М.: Госполитиздат, 1957.— 735 с.
- Пруденский Г. А. Проблемы рабочего и внерабочего времени. — М.: Наука, 1972.— 335c.
- Патрушев В. Д., Артемов В. А., Новохацкая О. В. Изучение бюджетов времени в России XX века // Социологические исследования. — 2001. — № 6. — C.112-120.
- Посадская А.И., Римашевская Н. М., Захарова Н.К. Как мы решаем женский вопрос // Коммунист. — 1989. — № 4. — С. 56-65.
- Римашевская Н. Ванной Д., Малышева М., Мещеркина Е., Писклакова М. Окно в русскую частную жизнь. Супружеские пары в 1996 году. — М: Academia, 1999.— 272 с.
- Riley L.D., Bowen C.P. The sandwich generation: Challenges and coping strategies of multigenerational families. The Family Journal. 2005. Vol. 13(1). P. 52-58.
- Grundy E., Henretta J. C. Between elderly parents and adult children: A new look at the intergenerational care provided by the sandwich generation. Ageing and Society. 2006. Vol. 26(5). P. 707-722.
- Bianchi S. M. Family change and time allocation in American families. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2011. Vol. 638. P. 21-44.
- Layard R., Clark A., Cornaglia F, Powdthavee N., Vernoit J. What predicts a successful life? A life-course model of wellbeing. Economic Journal. 2014. Vol. 124. P. 720-738.
- Puskorius S. The Methodology of Calculation the Quality of Life Index. International Journal of Information and Education Technology. 2015. Vol. 5JNo. 2. P. 156-159.
- Zhang W., Feng O., Lacanienta J., Zhen Z. Leisure participation and subjective well-being: Exploring gender differences among elderly in Shanghai, China. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2017. Vol. 69. P. 45-54.
- Durkheim E. The Elementary Forms of Religious Life. 2012 reprint of 1954 edition. 468 р.
- Weber М. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. 2010 Reprint of 1930 First English edition. 308 р.
- Cheng T.-Y. The ecology of social time: An outline of an empirical analytic framework of the sociology of time. Time and Society. 2015. Vol. 26 (2). P. 137-164.
- Carrasco C., Dominguez M. Measured time, perceived time: A gender bias. Time and Society. 2014. Vol. 24(3). P. 326-347.
- McDonald P. Gender equity in theories of fertility transition. Population and Development Review. 2000. Vol. 26(3). P. 427-439.
- Калабихина И. Е. Гендерный переход и демографическое развитие // Российский экономический интернет-журнал. — 2009. — № 2. — С. 540-554.
- Темкина А. А., Роткирх А. Советские гендерные контракты и их трансформация в современной России // Социологические исследования. — 2002. — № 11. — С. 4-14.
- Kan M. Y., Sullivan O., Gershuny J. Gender convergence in domestic work: Discerning the effect of interactional and institutional barriers from large-scale data. Sociology. 2011. Vol. 45(2). P. 234-251.
- Калабихина И.Е., Шайкенова Ж.К. Затраты времени на домашнюю работу: детерминанты гендерного неравенства // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. — 2019. — № 3. — С. 261-285. DOI: 10.14515/monitoring.2019.3.15
- Thevenon O., Gauthier A.H. Family policies in developed countries: A 'fertility-booster'with side-effects. Community, Work & Family. 2011. Vol. 14(2). P. 197-216.
- MyrskylaM., Kohler H.—P., Billari F. C. Advances in development reverse fertility declines. Nature. 2009. Vol. 460. P. 741-743.
- Olah L.S. Changing families in the European Union: Trends and policy implications. United Nations Expert Group Meeting "Family policy development: Achievements and challenges" in New York, May 2015. 41 p.
- Калабихина И.Е., Бирюкова С. С., Макаренцева А. О. Реализация программы содействия занятости через профессиональное переобучение женщин с маленькими детьми в городе Москве // Мир России: социология, этнология. — 2018.—Т. 27. — № 2. — С. 136-162. DOI: 10.17323/1811-038X-2018-27-2-136-162
- Слонимчик Ф., Юрко А. Оценка влияния политики материнского капитала в России // Демографическое обозрение. — 2015. — № 2. — С. 30-68.
- KlockerN., Drozdzewski D. Commentary: Career progress relative to opportunity: how many papers is a baby 'worth'?. Environment And Planning. 2012. Vol. 44(6). P. 1271-1277.