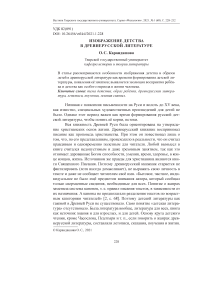Изображение детства в древнерусской литературе
Автор: Карандашова Ольга Святославовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности изображения детства и образов детей в древнерусской литературе как времени формирования детской литературы, появления её зачатков; выявляется эволюция восприятия ребёнка и детства как особого периода в жизни человека.
Тема детства, образ ребёнка, древнерусская литература, летописи, поучения, жития святых
Короткий адрес: https://sciup.org/146282245
IDR: 146282245 | УДК: 82(091) | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.1.228
Текст научной статьи Изображение детства в древнерусской литературе
Начиная с появления письменности на Руси и вплоть до XV века, как известно, специальных художественных произведений для детей не было. Однако этот период важен как время формирования русской детской литературы, чтобы понять её корни, истоки.
Вся книжность Древней Руси была ориентирована на утверждение христианских основ жизни. Древнерусский книжник воспринимал писание как проповедь христианства. При этом он повествовал лишь о том, что, по его представлениям, происходило в реальности, что он считал правдивым и одновременно полезным для читателя. Любой вымысел в книге считался недопустимым и даже греховным занятием, так как это отнимает дарованные Богом способности, умения, время, здоровье, в конце концов, жизнь. Источником же правды для христианина являются книги Священного Писания. Поэтому древнерусский книжник старается не фантазировать (хотя иногда домысливает), не выражать свою личность в тексте и даже не сообщает читателям своё имя. «Бытовое, частное, индивидуальное не было ещё предметом внимания автора, который сообщал только сверхценные сведения, необходимые для всех. Понятие о жанрах заменяла система канонов, т. е. правил писания текстов, в зависимости от их назначения. А каноны не предполагали разделения текстов по возрастным категориям читателей» [2, с. 68]. Поэтому детской литературы как таковой в Древней Руси не существовало. Само понятие «детская литература» отсутствовало. Была литература вообще, литература для всех, книга как источник знания и для взрослых, и для детей. Основу круга детского чтения, кроме Часослова, Псалтыри и т. п., если говорить о жанрах древ нерусской лит ературы, составляли летописи, сказания, поучения и жития.
При этом, по замечанию Д. С. Лихачёва о летописи, которое, думается, можно отнести ко всей древнерусской литературе, «для летописца не существует «психологии возраста». Каждый князь увековечен в своём как бы идеальном, вневременном состоянии. О возрасте князя мы узнаём только тогда, когда возраст (как болезнь) мешает его действиям. Если в летописи говорится о детстве князя, то летописец стремится и здесь изобразить его как бы в его сущности князя. Ребёнок-князь начинает битву, бросая копьё (Игорь), или защищает мать с мечом в руках (Изяслав), или совершает обряд посажения на коня. С момента “посага” (обычно в восьмилетнем возрасте) летописец по большей части уже не упоминает о возрасте князя, оценивая его поступки как поступки князя вообще» [5, с. 30].
Когда же говорится о воспитании князей, то многократно подчёркивается их благочестие. Д. С. Лихачёв приводит в пример «Похвалу» роду рязанских князей неизвестного автора второй половины XIII или начала XIV в., рязанца по происхождению, который, вспоминая рязанских князей минувших времен могущества и независимости Руси, следующим образом охарактеризовал уже уходивший к тому времени в прошлое идеал князей: «Воспитани быша в благочестии со всяцем наказании духовней. От самых пелен бога возлюбили. О церквах божиих вельми печа-шеся, пустотных бесед не творяще, срамных человек отвращашеся, а со благыми всегда беседоваша, божественых писаниих всегода во умилении послушаше» [4, с. 300]. В «Повести временных лет» в некрологической характеристике Всеволода Ярославича говорится: «Сий бо благоверный князь Всеволод бе издетьска боголюбив, любя правду, набдя убогыя, въз-дая честь епископом и презвитером, излиха же любяше черноризци и по-даяше требованье им. Бе же и сам въздержася от пьянства и от похоти…» [7, с. 142]. Казалось бы, ничто в этой характеристике не вытекает из приводимых о нём в летописи фактов. Характеристика Всеволода Ярославича выполняет здесь чисто этикетную функцию: это условное надгробное слово, отмечающее его христианские качества в момент, когда об этих христианских качествах и необходимо было вспомнить. Однако благочестие Всеволода, как указывает автор, присуще ему с детства. Всеволод здесь как бы неизменен с детства до смерти.
До наших дней дошла «Повесть о Басарге», наиболее полно исследование рукописной традиции и литературной истории которой было предпринято М. О. Скрипилем [8]. Данное произведение сохранилось в рукописной традиции под разными названиями: «Сказание ο трех царей, ο царѣ Несмеяне Гордом и царе Борзосмысле Дмитриевиче», «Повесть ο Дмитрии-купце и ο премудром слове сына ево», «Повесть ο неком купце богобоязливом и ο детище его», «Сказание-повесть ο царе Борзосмысле Дмитриевиче и ο мудрых его загатъках», «Слово ο Дмитрии купце Басар-ге». «Повесть ο Басарге и ο сыне его Борзосмысле» дошла до нас только в рукописях XVII в. и более позднего времени, но характер повести и ряд реалий (например, упоминание Антиохии без ссылки на ее завоевание турками в начале XVI в.) дает основание утверждать, что она возникла еще в конце XV – начале XVI в. и просто не сохранилась в более ранних списках. Β основе «Повести ο Басарге и ο сыне его Борзосмысле» лежит широко распространенный в фольклоре и литературе «мировой сюжет», обычно именуемый в литературоведении и фольклористике анекдотом об «императоре и аббате» [1]. Как и во всех рассказах на этот сюжет, жестокий правитель задает загадки, которые отгадывает не тот человек, кому они загаданы (в повести – купец Басарга), а выступающий вместо него мудрый «простак», которым в данном случае оказывается семилетний мальчик Борзосмысл. Отрок справляется с загадками царя и занимает его место на престоле. Здесь в сказочной форме передает какой-то эпизод борьбы греческого православия с латинским западом. Местом борьбы изображается Антиохия, а надежды на защиту возлагаются на Царьград. В повести многократно подчёркивается христианский мотив: неправедный царь, принуждающий православных христиан поменять веру под страхом смерти. Поэтому и купец с сыном, случайно причалившие к берегам Антиохии, борются не только за собственную жизнь, но и за возможность сохранить свою веру. Более того, они оказываются освободителями порабощенных народов. В конце повести ребёнок, перехитривший царя, обращается с вопросом к присутствующим: «Ипаты, и тироны, и князи, и бояре, и вси гражане, мужие, и жены, и девицы! в которого бога хощете веровати?» И все ответили: «Хотим веровати во святую тройцу… помози нам! Детище жь, извлек меч свой, и отсече главу царю, и рече ему: Се ти моя третьяя отгадка, не смейся, поганой, нам, християном» [8, с. 341]. Семилетний ребёнок оказывается не только мудрым православным христианином, но и защитником веры, освободителем многих православных христиан. Единственное, что указывает на его детскость, – эпизод игры в начале повести: когда купец возвращается на корабль, «сын его играет на корабли на древце: единою рукою древца держит, а другою рукою по древ-цу бияше и седя, яко на кони, и скакаше по кораблю, яко ж детем подобает тако игры творити» [Там же, с. 340]. Крайне редко встречаются в литературе Древней Руси приметы детского поведения в ребёнке, возможно, потому что авторов книг того времени интересовала не психология человека, а его дела. Соответственно никакая психология детства не изображается. Ребёнок ведёт себя как взрослый, и оценивают его как взрослого. При этом одним из требований, предъявляемых к человеку вообще, а значит, и к ребёнку, является благочестие. Так, в «Житии Феодосия Печерского» (созданном Нестором между 1080 и 1113 годами) говорится о том, что с ранних лет он был равнодушен к детским забавам: «Детям, играющим не приближашесь, яко обычай есть юным, но гнушашесь играньми их» [9, с. 4]. Зато в нём возникает острая тяга к учению, чтобы приникнуть к кни- гам священного писания. По мнению С.Ю. Николаевой, Житие занимало важное, если не центральное, место в системе жанров древнерусской литературы, так как оно содержало наиболее отчетливо выраженную средневековую концепцию человека [6]. Как и Феодосий, Борис и Глеб в «Чтении о житии и погублении блаженную стастотерпцу Бориса и Глеба» – оба с детства прониклись христианским мировоззрением, им чужды какие бы то ни было забавы, кроме чтения книг и молитв. Особенно отроков увлекают жития святых, они мечтают, чтобы их жизнь была подобна жизни героев житийной литературы. Интересно, что и в «Поучении» Владимира Мономаха, соединяющем элементы дидактики и автобиографичности, автор выступает ярым поборником просвещения, призывая детей учиться всему, чего они ещё не знают. В качестве примера Владимир Мономах приводит своего отца Всеволода, который, находясь дома в Киеве, изучил пять языков. Сам Мономах предстаёт здесь как человек широко образованный, хорошо знающий литературу своего времени. В своем произведении он использует Псалтырь, Паремийник, поучения Василия Великого Ксенофонта и Феодоры к детям, помещенные в «Изборнике» 1076 года.
Детство появляется (хоть и мимоходом) в большей степени в автобиографических сочинениях авторов Древней Руси. Как отмечает О. Е. Кошелева [3], сведения о детстве, причем всегда детстве сиротском и трагическом, сохранились в достаточно большом количестве документальных «автобиографий» холопов. Дело в том, что при поступлении человека в холопы, когда он давал на себя «кабалу», о нём с его же слов делалась запись и составлялся его словесный портрет (на случай поиска беглых). Такие записи, сохранившиеся в кабальных книгах конца XVI в., во множестве принадлежат детям, поэтому и их краткий рассказ о себе относится собственно к детству. Примеры подобных записей приведены в книге О. Е. Кошелевой [Там же, с. 9–14], однако это, скорее, произведения делового, а не художественного характера, хотя, вероятно, влияние на литературные тексты они оказали.
Только с конца XVI – начала XVII века внимание авторов оказывается привлечено к реальным личным характерам и судьбам реальных исторических лиц. В это время появляются элементы психологии человека. Это, конечно, всё ещё не психология детства, а общая тенденция развития русской литературы в целом, которая постепенно, спустя столетия, разовьётся в то, что мы называем детской литературой.
Tver State University
Department of History and Theory of Literature
Список литературы Изображение детства в древнерусской литературе
- Андерсон В. Император и аббат: история одного народного анекдота. Казань: Типо-лит. Имп. ун-та, 1916.
- Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература. М.: Академия, 2005. 576 с.
- Кошелева О.Е. "Свое детство" в Древней Руси и в России эпохи Просвещения (XVI-XVIII вв.): Учебное пособие по педагогической антропологии и истории детства. М.: Изд-во Ун-та Рос. акад. образования, 2000. 320 с.
- Лихачёв Д.С. Повести о Николе Заразском (тексты) // Труды Отдела древнерусской литературы (ОДРЛ) Института русской литературы Академии наук СССР. Т. VII. СПб.,1949. С. 257-406.
- Лихачёв Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М.: Наука, 1970. 180 с.
- Николаева С.Ю. Древнерусские памятники в литературном процессе второй половины XIX в..: автореф. дис. … докт. филол. н.: 10.01.01 / С.Ю. Николаева; Тверской гос. ун-т. М., 2001. 34 с.
- Повесть временных лет: в 2 ч. Ч. 1. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1950. 407 с.
- Скрипиль М.О. Повесть о Басарге // История русской литературы: в 10 т. Т. 2. Ч. 1. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1945. С. 340-345.
- Яковлев В.А. Памятники русской литературы XII и XIII веков, изданные Владимиром Яковлевым, и. д. доцента Дерптского университета. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1872. 188 с.