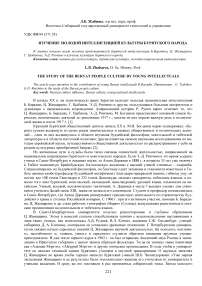Изучение молодой интеллигенцией культуры бурятского народа
Автор: Жабаева Л.Б.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 2 (37), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье показан вклад молодых представителей бурятской интеллигенции Б.Барадина, Ц. Жамцарано, Г. Цыбикова, Э-Д. Ринчино в изучение культуры бурятского народа.
Влияние русской культуры, бурятская культура, молодая национальная интеллигенция
Короткий адрес: https://sciup.org/142142516
IDR: 142142516 | УДК: 008:94
Текст научной статьи Изучение молодой интеллигенцией культуры бурятского народа
В начале ХХ в. на политическую арену Бурятии выходит молодая национальная интеллигенция Б. Барадин, Ц. Жамцарано, Г. Цыбиков, Э.-Д. Ринчино и другие, пользующаяся большим авторитетом и думающая о национальном возрождении. Американский историк Р. Рупен верно отмечает то, что Ц. Жамцарано, Б. Барадин, Г. Цыбиков, Э.-Д. Ринчино, М. Богданов представляют основной список бурятских политических деятелей до революции 1917 г., многие из них играли важную роль в политической жизни и после 1917 г. [1]
Крупный бурятский общественный деятель начала ХХ в. М.Н. Богданов верно подчеркивал: «Буряты сумели выдвинуть из своих рядов замечательных и видных общественных и политических деятелей… одни из них выдвинулись в области изучения буддийской философии, монгольской и тибетской литературы и в области восточной политики; другие известны своими научными исследованиями по методам европейской науки, путешествиями и общественной деятельностью по распространению у себя на родине культурных приобретений Запада» [2].
Их жизненные пути и судьбы были тесно связаны совместной деятельностью, направленной на национальное возрождение бурятского и монгольского народов. Если Э.-Д. Ринчино в это время усердно учился в Санкт-Петербурге и осваивал науки, то Агван Доржиев к 1888 г. в возрасте 35 лет уже окончил в Тибете знаменитую Брайнбунскую богословскую академию с высшей ученой степенью – лхарамба. Специализируясь на буддийской философии, он блестяще сдает экзамены и становится известным в Тибете цаннид-хамбо (профессор буддийской метафизики). Благодаря прекрасной памяти, гибкому уму, он постиг все 108 томов Ганьчжура и 225 томов Даньчжура, овладел санскритом, тибетским языком, а помимо того знал бурятский, монгольский, калмыцкий, маньчжурский, русский языки, изъяснялся на китайском. Умный, волевой, исключительно тактичный, А. Доржиев в числе 7 высших ученых лам становится учителем Далай-ламы XIII, также он являлся его советником. Студент и профессор познакомились в Санкт-Петербурге, где Агван Доржиев развертывает грандиозную деятельность по строительству буддийского храма в столице Российской империи. С 1906 г. при его активном участии, помощи Б. Баради-на, Ц. Жамцарано и др. стала работать типография «Наран» (Солнце), выпускавшая религиозные и светские произведения на монгольском и тибетском языках.
В Санкт-Петербургском университете получил разностороннее и глубокое образование Ц. Жамцарано. Этому в немалой степени способствовали занятия с высококлассными наставниками в лице таких ученых, как монголоведы А.Д. Руднев, В.Л. Котвич, академик С.Ф. Ольденбург, ученый-сибиревед Д. А. Клеменц, скоторыми он установил дружеские отношения. С Петербургским университетом связано начало серьезных занятий Ц. Жамцарано научной деятельностью. На молодого, пытливого, настойчивого и, главное, умного и серьезного студента обратили внимание крупные ученые-преподаватели. И уже после первого курса в 1903 г. он был отправлен Академией наук России в экспедицию в Иркутскую губернию с целью записи образцов фольклора. Тогда он записал такие памятники как «Аламжи Мэргэн», «Айдурай Мэргэн» и другие эпические произведения. В годы учебы в университете он овладел техникой записи бурятских улигеров в научной транскрипции. О научных занятиях Ц. Жамцарано во время учебы хорошо написал бурятский ученый Ш.Б. Чимитдоржиев: «Уже первая экспедиция Жамцарано и ее результаты были положительно оценены его учителями из университета и учеными академии. И сразу же его поставили в ряд признанных собирателей эпоса. Звезда молодого ученого стремительно начинает восходить. Следуют Ц. Жамцарано предложения о новых экспедициях от Академии наук, Географического общества и Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии. С 1903 по 1907 г. он ежегодно выезжает в научную экспедицию. Снова выезжает в Иркутскую губернию, затем в Халха-Монголию, где занимался в основном фольклорными записями. Еще в 1904 г. в районе Урги во время праздника «Данчик» начал записи фольклора халхасцев».
Начиная с 1905 г. он начал публиковать в разных изданиях отчеты научных экспедиций, путевые заметки, сообщения и статьи. Одной из первых его значительных публикаций по фольклору были «Материалы к изучению устной литературы монгольских племен». Сюда входят благопожелания, пословицы и поговорки, загадки и песни эхиритов и булагатов.
Большой интерес вызвали опубликованные еще в те годы работы, такие как «Пережитки шаманизма у агинских бурят» (1906 г.), «Краткий обзор бурятских песнопений» (1906 г.), «Онгоныагинских бурят» и др. Деятельность Ц. Жамцарано по собиранию фольклора была высоко оценена еще в 1906 г., когда ему было 25 лет и он учился в университете. По представлению Отделения этнографии совет Русского географического общества присудил ему малую серебряную медаль – одну из почетных – за серию исследовательских работ по этнографии бурят.
В 1908 г. совместно с А.Д. Рудневым Ц. Жамцарано публикует «Образцы монгольской народной литературы». Б.Я. Владимирцов в своей рецензии на книгу «Образцы монгольской народной литературы» отмечал, что собранный Жамцарано фольклорный материал записан в точной научной транскрипции, что мнение профессора М.А. Позднеева об отсутствии эпоса у монголов отвергнуто. «Благодаря самозабвенному труду Ц.Ж. Жамцарано в нашем распоряжении находится уже очень значительное количество записей эпической поэзии халхасцев, бурят и других монгольских племен (см. коллекции Ц. Ж. Жамцарано в Азиатском музее Императорской Академии наук), и можно надеяться, что собрание это будет еще увеличиваться».
Основную работу по собиранию фольклорного материалаЦ. Жамцарано осуществил в период учебы и работы в Санкт-Петербургском университете, а также научных экспедиций в Китай и Монголию, осуществленных в 1909–1912 гг. В течение этого времени Ц. Жамцарано совершил очень длительную поездку по сеймам и хошунам Внутренней Монголии в 1909–1910 гг. Результаты были опубликованы в отчете «Поездка в Южную Монголию в 1909–1910 годах», помещенном в сборнике «Русский комитет для изучения Средней и Восточной Азии» (СПб., 1913, № 2). Практически без перерыва, в 1911 г., состоялась поездка к ононским тунгусам на родину. Следующий 1912 год ознаменовался участием в Ор-хонской экспедиции В.Л. Котвича. Эти данные убедительно свидетельствуют о несомненных успехах молодого ученого, его признании в среде самых крупных российских ориенталистов и научных обществ, занимавшихся изучением стран Восточной и Центральной Азии – в Русском географическом обществе, Комитете по изучению Средней и Восточной Азии, Российской академии наук, Санкт-Петербургском университете.
За годы учебы и работы в Санкт-Петербургском университете, поездок и участия в экспедициях, Ц. Жамцарано за период с 1903 по 1913 г. собрал огромный материал самого разнообразного характера.
Его дневники, полевые заметки тоже составляют богатейший фонд. Написаны они привлекающей внимание скорописью, являются результатом пытливого, трудолюбивого ума, и их научное значение трудно переоценить.
Ц. Жамцарано также занимался переводом на русский язык произведений бурятского и монгольского фольклора. Его переводы публиковались в периодической печати, а часть переводов сохранилась в архивном фонде Института востоковедения Российской академии наук.
В послесловии к монгольскому изданию исторического памятника XVII в. «Алтантовч» написано, что первым исследователем «Алтантовч» был выдающийся ученый-монголовед Ц. Жамцарано. В произведениях XVI–XVII вв., таких как «Сагаанцэцэний Эрдэнийнтовч» (Волшебные четки), родословную монгольских ханов возводили к царям Индии и Тибета, а деятельность Чингисхана и его потомков привязывали к указаниям лам секты желтошапочников. Все это Ц. Жамцарано считал преувеличением, и его собственные выводы отличаются новизной, что, на наш взгляд, справедливо и точно.
Надо отметить, что по инициативе профессоров для сбора этнографического материала постоянно привлекались студенты университета, в том числе из бурят, которые весьма преуспели на исследовательском поприще и оставили этим о себе добрую память. Таким был, например, Г. Цыбиков, который еще студентом по итогам своих полевых наблюдений и собранных материалов написал книгу «Подати и повинности», где анализирует такие сложные вопросы, как социальные отношения, землепользование, управление и т. д. А после окончания университета он совершает свое знаменитое путешествие в Тибет, которое явилось по своей сути научным подвигом, за что он был отмечен высшей наградой Русского географического общества – премией им. Н.Н. Пржевальского и в честь его была отлита специальная золотая медаль «За блестящие результаты путешествия в Лхасу». Его книга «Буддист-паломник у святынь Тибета» получила мировую известность. Научные достижения Г. Цыбикова стали примером для студентов-бурят.
Активно участвует в сборе фольклорного и других материалов в годы учебы Б. Барадин, а по окончании университета в 1905-1907 гг. он совершает путешествие в Монголию и Тибет, результаты которого были высоко оценены ученым миром, и он был удостоен премии Русского географического общества им. Пржевальского и избран его действительным членом. Приглашенный работать преподавателем монгольского языка в родной университет, он издает в 1910 г. «Отрывки из бурятской народной литературы», куда вошли тексты (на латинице) из эпоса «Абай Гэсэрхубуун», шаманской поэзии и других фольклорных жанров.
Заслуживает особого внимания работа, проведенная в годы учебы студентом Ринчино по рефор -мированию древней монгольской письменности и созданию нового монголо-бурятского алфавита. На Э.-Д. Ринчино во время учебы в университете обратили внимание известные монголоведы, преподаватели восточного факультета В.Л. Котвич, А.Д. Руднев. Студент Э.-Д. Ринчино и школьный учитель Н.И. Амагаев, видный представитель бурятской интеллигенции, педагог-просветитель, взялись за усовершенствование алфавита Агвана Доржиева, который создал новый монгольский алфавит, в написании букв которого лежало реформированное уйгуро-ойратское письмо. В алфавите А. Доржиева нашли воплощение особенности бурятской фонетики . Надо отметить, что особенностью нового алфавита, получившего в научном мире название «агвановский», было наличие буквенных знаков, позволявших воспроизводить весь реестр европейских буквенных эквивалентов. Это было достигнуто за счет добавочных диакритических знаков в виде различных отточий с обеих сторон вертикальных монгольских строк, что несколько усложняло письмо. Но сама идея приспособить монгольское письмо к точному воспроиз -ведению европейских буквенных соответствий, безусловно, была прогрессивна и несла в себе новаторское зерно[3].
При работе над алфавитом Ринчино исходил из того, что бурятский язык, имеющий корневые связи с монгольским, должен базироваться конкретно на старомонгольской графической основе, что способствовало бы, по его мнению, обогащению знаний, укрепило бы территорию данного языкового пространства. Работа над алфавитом потребовала много усилий и времени. В результате Ринчино вместе с Амагаевым, проделав тщательную работу по упрощению написания отдельных букв, по уточнению грамматических форм и правил, создали более упрощенный и удобный вариант агвановского алфавита. В 1910 г. они издали небольшую книгу под названием «Новый монголо-бурятский алфавит» [4].
Обращает на себя внимание предисловие к этому алфавиту, которое можно расценить как своеобразное кредо нарождающейся бурят-монгольской группы национальных интеллигентов. В первых строках предисловия Ринчино делает акцент на том, что все лучшее, которое «должно было будить, возвышать и заставлять стремиться к лучшему народную мысль и волю, „.религия в виде философского и нравственного учения буддизма и европейская культура в ее положительных проявлениях, - были недоступны для широких масс и свет истинного знания был почти совершенно закрыт для них то случайными, то умышленными преградами». И вследствие этого, отмечает он, западная культура, разрушая патриархальный быт, его устои, не давала взамен ничего, в результате в массах падали нравственные начала и широко распространялись такие социальные болезни, как пьянство и преступность. Религия же, считает он, в виде обрядового буддизма порождала лишь суеверие, идолопоклонничество и другие подобные проявления невежества .
Также он пишет, что стала пробуждаться общественная мысль бурят-монгольского народа, и «одним из первых его проявлений явился протест против этих уродливых и ненормальных порядков, возникла идея национализации школы и религии, вообще всего культурного достояния нации» [5]. С эпохой такого пробуждения бурят, по их мнению, совпало изобретение нового монголо-бурятского алфавита, на долю которого и выпало стать одним из орудий просвещения бурятского народа .
Ринчино подчеркивает, что «чужой язык в школе и в сфере религии затруднял усвоение знаний и сознательно выработанных идеалов общественности. И школа, и религия мало считались с тем общепризнанным положением, что истину необходимо преподавать на языке, доступном для масс, что родной язык есть могущественнейшее орудие культурной работы среди данного народа» [6]. Какими средствами и как бороться против надвигающейся опасности исчезновения народа? - такой риторический вопрос задает Ринчино и, отвечая на него, указывает, что единственным ответом этому должны быть «культура и просвещение, приближение их к народу через родной язык. „» [7]
В заключение предисловия Ринчино пишет о том, что положение бурят-монгольского народа крайне печально, что уже начался процесс вымирания, поскольку «западная цивилизация... по отношению к таким народностям, как мы, безжалостна и жестока. Многие сибирские инородцы. „ уже вымерли или вымирают» [8]. Поэтому, исходя из того, что интеллигенция играет громадную роль в жизни народа, он призывает ее к национальному единству, необходимости ликвидировать все дрязги и споры, происходящие на почве партийной принадлежности и политических взглядов. По его мнению, в трудных условиях выживания бурятского народа национальная интеллигенция должна быть аполитична, ибо «материалов для беспартийной работы хватит у нас надолго». «В критический момент для нации, – убежден он, – некогда сводить счеты, дробиться, готовя этим себе жестокое поражение…» [9]. Как настоящий патриот, он полон веры в возрождение народа и убежден, что «просвещение народа – вот та всеобъемлющая платформа, которая должна объединить нас всех: «народников» и «западников», прогрессистов и консерваторов, все оттенки и масти…» [10].
Тексты в новом монголо-бурятском алфавите были составлены авторами из образцов народного фольклора: сказок, песен, отрывков из былин, в качестве примеров были помещены стихотворные произведения представителей современной бурятской интеллигенции, которые являлись «первыми ласточками нарождающейся новой монголо-бурятской литературы» [11].
В заключение обзора алфавита Ринчино продолжает писать о наболевшем, а именно о задачах, стоящих перед интеллигенцией. Он отмечает, что перед монголо-бурятской интеллигенцией лежит «обширнейшая и труднейшая задача, реформа современного литературного языка, в смысле приближения его… к живому, современному языку, понятному и доступному для широких масс, а не только для привилегированных групп народа, как это и имеет место в отношении нынешнего литературного языка» [12]. В этом, как глубоко убежден автор, скрывается основной фактор единения территориально разбросанных бурят. Он полагает, что реформированный литературный язык должен «быть общемонгольским, объединять все наречия, являясь равнодействующим их различий и особенностей» [13].
Еще в начале ХХ в., когда обсуждался вопрос о том, каким быть бурятскому алфавиту: реформировать старый или же лучше создать для бурят совершенно новую письменность, лектор монгольского языка Петербургского университета Б. Барадин предложил латинскую графику и даже выпустил в 1910 г. на латинизированном письме сборник фольклорных записей. Эту попытку приспособить латинский алфавит к передаче звуков монгольского языка Ринчино считает непонятным, неожиданным «западническим поветрием». По этому вопросу у него было другое мнение: «если будет выдвинут латинский алфавит, найдутся сторонники и русского алфавита, который имеет за собою большее историческое и практическое обоснование, чем латинский» [14]. Как показало время, эти его слова оказались поистине пророческими. По убеждению Ринчино, алфавит должен основываться на положении Учения Великого Будды, гласящем, что «истину следует проповедовать на языке, понятном народу» [15]. И поэтому он надеется, что алфавит и книги, написанные на реформированной монголо-бурятской азбуке, станут «доступными для всех – и для нойона, и для «черного» человека» [16].
Таким образом, представители молодой бурятской интеллигенции внесли значительный вклад в изучение культуры бурятского народа. Они мечтают о приобщении своего народа к великой русской культуре, наблюдая всеобщее пробуждение народностей Сибири, отмечают усиливающееся стремление к культуре, формирующаяся национальная интеллигенция, по их мнению, должна играть огромную роль в жизни народа.