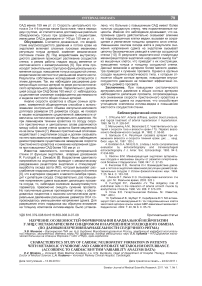Изучение особенностей формирования кардиальной нейропатии улиц с метаболическим синдромом и нарушением углеводного обмена (по данным изучения вариабельности сердечного ритма)
Автор: Минаков Э.В., Кудаева Людмила Александровна
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Внутренние болезни
Статья в выпуске: 1 т.7, 2011 года.
Бесплатный доступ
Изучались вопросы раннего формирования кардиальной нейропатии (КН) у лиц с метаболическим синдромом (МС) и нарушением углеводного обмена по данным анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). Проводили оценку вегетативного статуса у пациентов с МС и нарушением толерантности к глюкозе (НТГ), МС и сахарным диабетом 2-го типа (СД-2) на основании изучения традиционных параметров анализа ВСР таких, как RMSSD, pNN50, применения нового подхода, основанного на определении вариаций коротких участков ритмограммы (ВКРМ), средневзвешенной вариации ритмограммы (СВВР). Выявили нарушение монотонности нарастания ВКРМ при уменьшении частоты сердечных сокращений у пациентов с МС и НТГ, МС и СД-2. Отмечалось значимое снижение СВВР у больных с МС и СД-2. У пациентов с МС и НТГ величины СВВР определенные за 24 часа, в утренние часы были снижены, ночью - находились в пределах нормы. Параметры RMSSD, pNN50 оказались значительно снижены у больных с МС и СД-2, у лиц с МС и НТГ полученные величины попадали в диапазон нормальных, но значения pNN50 в утренние часы находились около нижней границы определенной для них нормы. Были выявлены начальные, полностью обратимые проявления КН у лиц с МС и НТГ; отмечено преимущество нового параметра СВВР перед традиционными показателями в отношении диагностики признаков КН улиц с МС и НТГ
Вариабельность сердечного ритма, кардиальная нейропатия, метаболический синдром, нарушение толерантности к глюкозе
Короткий адрес: https://sciup.org/14917216
IDR: 14917216
Текст научной статьи Изучение особенностей формирования кардиальной нейропатии улиц с метаболическим синдромом и нарушением углеводного обмена (по данным изучения вариабельности сердечного ритма)
-
1Вв едение. Диабетическая кардиальная нейропатия (ДКН) является ранним и наиболее прогностически неблагоприятным проявлением поражения вегетативной нервной системы у больных сахарным диабетом. Частота встречаемости этого осложнения, по разным данным, составляет 73-93% [1, 2]. С ДКН связывают увеличение смертности больных сахарным диабетом. Так, по результатам мета-анализа, проведенного Ziegler, в течение 5, 8-летнего наблюдения смертность в группе больных сахарным диабетом и ДКН составила 29% по сравнению с 6% в группе без патологии автономной нервной системы. По данным А.М. Вейна, больные с сахарным диабетом, осложненным ДКН, погибают в течение 5-7 лет. В многочисленных работах подчеркивается, что даже доклиническая стадия ДКН ухудшает прогноз для жизни, значительно повышает вероятность фатальных сердечно-сосудистых событий [3, 4].
Однако проблема поражения вегетативной нервной системы при сахарном диабете остается до настоящего времени недостаточно разработанной в отношении таких важных вопросов, как ранняя диагностика, определение степени обратимости и возможностей коррекции на начальных этапах формирования данной патологии, когда еще отсутствуют необратимые изменения нервного волокна.
В этом аспекте перспективным представляется более детальное изучение состояния, предшествующего развитию сахарного диабета, а именно метаболического синдрома (МС) в сочетании с нарушением толерантности к глюкозе (НТГ). Именно на этапе МС и НТГ запускаются основные механизмы патогенеза кардиальной нейропа-
Адрес: г. Воронеж, пер. Купянский, 4, кв. 8.
Тел.: 8-473-2-55-36-85, 8-9601344294.
тии (гипергликемия, активация перекисного окисления липидов, эндотелиальная дисфункция, увеличение общего периферического сосудистого сопротивления, увеличение тромбогенного потенциала плазмы крови и др.). При этом доказанным является тот факт, что изменения, возникающие в этот период, в большинстве своем являются полностью обратимыми [5].
Методы . Обследовано 90 человек в возрасте 24-60 лет (средний возраст 44,84±8,3). Выделены 3 сопоставимые по возрасту группы: группа № 1 – пациенты МС и НТГ (30 человек), группа № 2 – пациенты с МС и сахарным диабетом 2-го типа (СД-2) с длительностью диабета 5-10 лет (30 человек), группа № 3 – группа контроля – практически здоровые люди (30 человек) с нормальными показателями жирового, углеводного обменов, нормальной массой тела, без патологии сердечно-сосудистой системы.
Диагноз метаболического синдрома был установлен согласно Российским рекомендациям по диагностике и лечению метаболического синдрома 2007 г. [5]. У всех пациентов групп № 1 и № 2 отмечалось ожирение по абдоминальному типу (для женщин объем талии (ОТ) >88 см, для мужчин ОТ >102 см), артериальная гипертензия I, II степени средней длительностью 3,5±1,2 года, нарушение углеводного обмена в виде НТГ или СД-2. Критериями исключения служили: симптоматическая артериальная гипертензия, артериальная гипертензия III степени, хроническая сердечная недостаточность, стенокардия напряжения, нестабильная стенокардия, наличие в анамнезе острого инфаркта миокарда или острого нарушения мозгового кровообращения, гемодинамически значимые нарушения сердечного ритма, патология клапанного аппарата, сахарный диабет в стадии декомпенсации, патология щитовидной железы, онкологические заболевания.
Все обследуемые подвергались тщательному клиническому обследованию, включающему в себя сбор жалоб, данных анамнеза жизни, заболевания, объективный осмотр с определением антропометрических показателей (индекс массы тела, объем талии, объем бедер), измерением артериального давления (АД); общеклинические и лабораторные методы исследования: общий анализ крови, мочи, биохимическое исследование крови (глюкоза, холестерин, нейтральные жиры и триглицериды, АлАт, АсАТ, креатинин и др.).
Для диагностики нарушений углеводного обмена определяли уровень глюкозы крови натощак и через 2 ч после перорального приема 75 г глюкозы. Оценку результатов теста проводили в соответствии с критериями ВОЗ по диагностике СД и других видов гипергликемий 1999 г. [5].
Каждому из обследуемых было проведено суточное мониторирование ЭКГ с использованием системы «Холтер-ДМС» с последующей оценкой вариабельности сердечного ритма (ВСР). Анализировали традиционные параметры ВСР, такие, как RMSSD, pΝΝ50. Соответствие норме определяли согласно классификации Bigger 1995 г. [6].
Кроме того, применяли разработанный в кардиоцентре новый подход к изучению ВСР, базирующийся на оценке вариации коротких участков ритмограммы (ВКР), средневзвешенной вариации ритмограммы (СВВР) [7]. Далее кратко опишем алгоритм построения указанных параметров.
Исследуемая ритмограмма разбивается на короткие участки, содержащие по 33 интервала RR; для каждого участка вычисляется среднее значение:
RRM= /33хУRR(k), где k=1, … 33, а также характеризующая синусовую аритмию вариация короткого участка ритмограммы (ВКР), определяемая равенством
ВКР=Уabs[RR(k+1)–RR(k)], где k=1, ... 32.
На всем исследуемом промежутке времени ВСР оценивается при помощи статистического анализа RRM и ВКР. Диапазон значений величин RRM, измеренных в миллисекундах, разбивается на 8 частей: RRM < 575, 575-649, 650-724, 725-799, 800- 874, 875949, 950-1024, >1025.
Вычисляются: ВКРМ(i) – среднее значение величин ВКР всех пар (ВКР, RRM), попавших в i-ю группу, и prs(i) (i=1, ... 8) – процент от общего числа имеющихся пар.
Для того чтобы охарактеризовать отклонение ВСР индивидуального пациента от средних значений нормы, регулярный рост ВКРМ(i) с ростом RR учитывается умножением ВКРМ(i) на весовой коэффициент q(i)=MΝ(8)/MΝ(i), где MΝ(i) – среднее значение ВКРМ(i) для нормы. Для возрастающих диапазонов изменения RRM весовые коэффициенты q(i) соответственно равны 3.04, 2.75, 2.33, 1.88, 1.56, 1.34,
-
1.1 5 и 1. Вся же ВСР пациента описывается средневзвешенной вариацией ритмограммы (СВВР), определяемой равенством
СВВР=У[prs(i) х q(i) хВКРМ(i)], где i=1, … 8.
Вариабельность сердечного ритма считалась не сниженной при СВВР>990 мс, при 750-990 мс признавалась среднесниженной, а в случае <750 мс сильно сниженной.
Статистический анализ проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica (версия 6.0). Данные представлены в виде M+m. Достоверность межгрупповых отличий оценивали по методу вариационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента. Различия считали достоверными при значениях р<0,05.
Результаты. При анализе наборов величин ВКРМ(i) мы оценивали два их свойства: характер монотонности изменения величин ВКРМ в зависимости от частоты сердечных сокращений (ЧСС) и СВВР как усредненную величину дыхательной аритмии на определенном промежутке времени (24 часа, утренние, ночные часы).
В ходе работы было отмечено, что в группе здоровых обследуемых при снижении ЧСС значения ВКРМ монотонно возрастают. У пациентов с МС и НТГ, МС и СД-2 эта зависимость нарушается.
В таблице 1 представлены значения параметра СВВР в исследуемых группах, определенные за весь период мониторирования (24 часа), в ночные (1:00:00-5:00:00), утренние часы (8:00:00-12:00:00). Анализ полученных результатов показывает, что во всех группах отмечается снижение значений СВВР в дневное время по сравнению с ночным периодом, что связано с процессами физиологической активации симпатического отдела вегетативной нервной системы в дневное время в ответ на бытовую активность обследуемых. Однако у здоровых лиц средние значения СВВР, определенные в утренние и ночные часы, попадают в диапазон нормальных. У пациентов с МС и СД-2 полученные результаты остаются патологически низкими на протяжении этих этапов мониторирования. В группе пациентов с МС и НТГ ночью значения СВВР являются нормальными, в то время как в утренние часы снижены и не попадают в диапазон нормальных.
Кроме того, у лиц с МС и НТГ отмечается умеренное, у больных с МС и СД-2 значительное снижение параметра СВВР, определенного за 24 ч мониторирования.
В таблице 2 представлены результаты изучения традиционных показателей ВСР – RMSSD, рΝΝ50, определенных за весь период исследования, в утренние, ночные часы. Выявлено значительное снижение исследуемых параметров у лиц с МС и СД-2 на протяжении всех исследуемых периодов мониторирования (24 часа, утренние, ночные часы). Показатели ВСР в группе пациентов с МС и НТГ занимают
Таблица 1
Средние значения и стандартные отклонения параметра СВВР, измеренные в миллисекундах, для обследованных здоровых лиц, пациентов с МС и НТГ, больных с МС и СД-2
|
Период |
Здоровые |
МС и НТГ |
МС и СД-2 |
Различия в группах |
|
Все исследование (24 часа) |
1554,29±157,83 |
880,15±35,25 |
715,94±31,08 |
a*, b*, c* |
|
Ночные часы (01:00:00-05:00:00) |
1821,14±369,31 |
1041,38±45,34 |
856,45±37,86 |
a*,b*,c** |
|
Утренние часы (08:00:00-12:00:00) |
1418,29±153,24 |
779,23±43,83 |
659,48±41,71 |
a*,b*,c*** |
П р и м еч а н и е : достоверность различий между группами: * – р<0,001; ** – р<0,01; *** – р<0,05; a – между группами здоровых и МС и НТГ; b – между группами здоровых и МС и СД-2; c – между группами МС и НТГ и МС и СД-2.
Таблица 2
Средние значения и стандартные отклонения параметров RMSSD, pNN50, измеренные в миллисекундах, для обследованных здоровых лиц, пациентов с МС и НТГ, больных с МС и СД-2
|
Период |
Параметр анализа ВСР |
Здоровые |
МС и НТГ |
МС и СД-2 |
Различия в группах |
|
Все исследование (24 часа) |
RMSSD |
53,14±9,63 |
22,0±1,30 |
14,55±1,10 |
a*, b*, c** |
|
pΝΝ50 |
16,14±2,62 |
3,79±0,57 |
2,21±0,27 |
a*, b*, c** |
|
|
Ночные часы (01:00:00-05:00:00) |
RMSSD |
69,71±17,32 |
31,40±2,92 |
15,43±1,45 |
a**,b*,c* |
|
pΝΝ50 |
29,29±4,92 |
9,40±1,84 |
2,74±0,78 |
a*,b*,c* |
|
|
Утренние часы (08:00:00-12:00:00) |
RMSSD |
42,86±9,90 |
23,60±5,36 |
12,47±1,03 |
b*,c*** |
|
pΝΝ50 |
13,71±4,23 |
2,98±1,02 |
1,14±0,10 |
a*,b*,c*** |
П р и м еч а н и е : достоверность различий между группами: * – р<0,001; ** – р<0,01; *** – р<0,05; a – между группами здоровых и МС и НТГ; b – между группами здоровых и МС и СД-2; c – между группами МС и НТГ и МС и СД-2.
некоторое промежуточное положение между результатами, полученными у здоровых лиц и больных с МС и СД-2, при этом численно попадают в диапазон нормальных значений. Вместе с тем нельзя не отметить, что значения параметра рΝΝ50, определенные у данных пациентов в утренние часы, находятся около нижней границы нормы.
Обсуждение. Диабетическая кардиальная нейропатия ассоциируется со снижением вариабельности частоты сердечных сокращений. Для выявления уменьшенного диапазона колебаний частоты сердечных сокращений у больных с парасимпатической недостаточностью наиболее чувствительным считается метод 24-часового мониторирования ЭКГ с последующим анализом вариабельности сердечного ритма. Тесты Вальсальвы, ортостатическая и дыхательная пробы оказываются менее эффективными. Среди показателей во временной области наиболее часто используются показатели RMSSD, рΝΝ50, являющиеся специфическими критериями активности парасимпатической нервной системы [8]. Кроме того, в нашем исследовании проводилась оценка таких параметров ВСР, как ВКРМ, СВВР. Набор параметров ВКРМ характеризует усредненную зависимость дыхательной аритмии от ЧСС. Монотонное возрастание величин ВКРМ при нарастании RRM отражает нарастание дыхательной аритмии при уменьшении ЧСС и характерно для вариабельности ритма здоровых лиц. При различных заболеваниях (в том числе и у наших обследуемых с МС и СД-2, МС и НТГ) эта монотонность часто нарушается. Параметр СВВР дает усредненную величину дыхательной аритмии на исследуемом промежутке времени. Снижение величины дыхательной аритмии, которое проявляется в уменьшении параметра СВВР, является признаком более напряженного состояния организма с активацией симпатического отдела вегетативной нервной системы, ухудшения функционального состояния обследуемого [9].
По результатам проведенной работы были выявлены признаки выраженной кардиальной нейропатии у больных с МС и СД-2, о чем свидетельствуют низкие значения традиционных показателей ВСР, параметра СВВР, определенные за весь период мониторирования, в утренние, ночные часы, нарушение монотонности нарастания величин ВКРМ при увеличении RRM. В ходе анализа ВСР у лиц с МС и НТГ нами также были обнаружены признаки снижения общей ВСР, ухудшения функционального состояния обследуемых, дисбаланса в вегетативной регуляции ритма сердца. Отличием можно считать лишь степень выраженности выявленных изменений и тенденцию к их полной обратимости в ночное время. Полученные данные указывают на присутствие начальных проявлений кардиальной нейропатии у лиц с МС и нарушением углеводного обмена в форме НТГ, то есть в отсутствие СД-2. Однако на сегодняшний день отсутствуют достоверные данные о механизмах нарушения вегетативной регуляции сердечного ритма у пациентов с МС и НТГ. Теоретически данный процесс может быть рассмотрен с позиций во многом уже изученного патогенеза кардиальной нейропатии на этапе манифестного СД-2. Так, основополагающую роль в развитии диабетической кардиальной нейропатии играют гипергликемия, инсулинорезистентность, ги-перинсулинемия или недостаточность бета-клеток и связанные с ними эндотелиальная дисфункция, нарушения жирового обмена, изменения реологических свойств крови [10]. Вместе с тем известно, что действие этих факторов начинается задолго до развития сахарного диабета, а именно на этапе МС и нарушения углеводного обмена в виде НТГ. Следовательно, процесс формирования кардиальной нейропатии также может запускаться намного раньше, что подтверждается результатами проведенного в работе анализа ВСР, показавшего наличие признаков кардиальной нейропатии у пациентов с МС и НТГ.
На основании сравнительного анализа традиционных показателей и параметров СВВР, ВКРМ можно сделать вывод о том, что при диагностике кардиальной нейропатии у лиц с МС и СД-2 информативны все используемые в исследовании показатели. Для оценки ВСР у пациентов с МС и НТГ применение только RMSSD, рΝΝ50 является недостаточным, так как получаемые значения находятся в пределах нормы и, следовательно, не являются показательными, демонстрируют только некоторую тенденцию к вегетативному дисбалансу с подавлением парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Более чувствительным у лиц с МС и НТГ оказался метод, основанный на исследовании вариаций коротких участков ритмограммы – определении ВКРМ, СВВР. Полученные низкие значения параметра СВВР, не попадающие в диапазон нормы, определенной для данного показателя, позволяют более четко судить о ВСР и соответственно состоянии вегетативной нервной системы у пациентов с МС и НТГ.
Заключение. Таким образом, на основании проведенного анализа ВСР у лиц с нарушением углеводного обмена можно сделать вывод о том, что процесс формирования кардиальной нейропатии начинается задолго до развития СД-2, еще на этапе МС и НТГ.
Неоспоримой является потребность дальнейшего изучения механизмов, лежащих в основе развития кардиальной нейропатии у пациентов с МС и НТГ, когда все изменения еще обратимы, и, следовательно, лечебное воздействие будет максимально эффективно.
Кроме того, необходимо отметить высокую практическую значимость применения метода анализа ВСР, и прежде всего нового параметра СВВР, в целях ранней диагностики начальных признаков кардиальной нейропатии у лиц с МС и НТГ.
Список литературы Изучение особенностей формирования кардиальной нейропатии улиц с метаболическим синдромом и нарушением углеводного обмена (по данным изучения вариабельности сердечного ритма)
- Балаболкин М.И. Диабетическая невропатия//Журнал неврологии и психиатрии. 2003. № 10. С. 57-65.
- Соколов Е.И. Диабетическое сердце. М.: Медицина, 2002. 416 с.
- Диабетическая кардиальная нейропатия/Г.Н. Гороховская [и др.]. М., 2006. 48 с.
- Верткин А.Л., Зорина С.А. Диабетическая автономная нейропатия: распространенность, патогенез, лечение//Русский медицинский журнал. 2005. № 20. С. 28-34.
- Диагностика и лечение метаболического синдрома (рекомендации ВНОК)//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2007. № 6. С. 2-26.
- Рябыкина Г.В., Соболев А.В. Вариабельность ритма сердца. М.: Стар Ко, 1998. 200 с.
- Соболев А.В. Использование средневзвешенной вариации ритмограммы в оценке динамики функционального состояния пациента. М., 2006. 20 с.
- Рябыкина Г.В., Соболев А.В. Мониторирование ЭКГ с анализом вариабельности ритма сердца. М.: Медпрактика-М, 2005. 224 с.
- Соболев А.В. Анализ вариабельности сердечного ритма на длительных промежутках времени//Функциональная диагностика. 2006. № 2. С. 14-15.
- Котов СВ., Калинин А.П., Рудакова И.Г. Диабетческая нейропатия. М.: Медицина, 2000. 232 с.