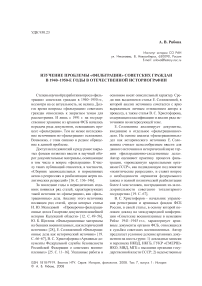Изучение проблемы «фильтрации» советских граждан в 1940-1950-е годы в отечественной историографии
Автор: Рябова А.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736928
IDR: 14736928 | УДК: 930.23
Текст обзорной статьи Изучение проблемы «фильтрации» советских граждан в 1940-1950-е годы в отечественной историографии
Степеньнаучнойразработкивопроса«филь-трации» советских граждан в 1940–1950 гг., несмотря на ее актуальность, не велика. Долгое время вопросы «фильтрации» советских граждан относились к закрытым темам для рассмотрения. И лишь с 1991 г. на государственное хранение из архивов ФСБ началась передача ряда документов, освещавших процесс «фильтрации». Тем не менее исследование источников по «фильтрации» осложнено. Возможно, с этим связано и редкое обращение к данной проблеме.
Доступ исследователей к ряду ранее закрытых фондов позволил ввести в научный оборот документальные материалы, освещающие в том числе и вопрос «фильтрации». К числу таких публикаций относится, в частности, «Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий» [16. С. 136–146].
За последние годы в периодических изданиях появился ряд статей, характеризующих такой источник по «фильтрации», как «фильтрационные» дела. Анализу этого источника посвящен ряд статей, среди которых статьи И. Ю. Молодовой «Проверочно-фильтрационные дела в Госархиве документов новейшей истории Калужской области» [12. С. 49–56], Ю. Б. Щеглова «Фильтрационные материалы на бывших военнопленных, как исторический источник» [28], Е. Соломатиной «Фильтрационные дела как исторический источник» [19. С. 66–67], В. С. Христофорова «Архивные документы Федеральной службы безопасности Российской Федерации о советских военнопленных» [25. С. 11–16]. Указанные работы в основном носят описательный характер. Среди них выделяются статья Е. Соломатиной, в которой анализ источника сочетается с ярко выраженным личным отношением автора к процессу, а также статья В. С. Христофорова, содержащая классификацию и анализ ряда источников по интересующей теме.
Е. Соломатина анализирует документы, входившие в отдельное «фильтрационное» дело. На основе анализа «фильтрационных» дел как исторического источника Е. Соломатина считает целесообразным ввести для данного источника в исторической науке термин «фильтрационно-следственные дела». Автор оценивает практику процесса фильтрации, «проведенную карательными органами СССР», как подпадающую под понятие «политические репрессии», и ставит вопрос о необходимости «принятия федерального закона о полной политической реабилитации более 4 млн человек, пострадавших из-за подозрительности советского тоталитарного государства» [19. С. 67].
В. С. Христофоров – начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ России, в своей статье, в основу которой положен доклад на международной конференции «Советские военнопленные в немецком Рейхе 1941–1945 гг.», характеризует архивные документы органов ФСБ, относящиеся к судьбам советских военнопленных. Автор предлагает условное деление архивных документов на шесть групп: 1) докладные записки и переписка НКВД, НКГБ, ГУКР «СМЕРШ» НКО, МВД, МГБ с высшими органами государственной власти СССР; 2) ведомственные
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 1: История © А. В. Рябова, 2008
нормативные правовые акты, регламентировавшие деятельность НКВД, НКГБ, НКО, МВД, МГБ в отношении военнопленных и направлявшиеся в территориальные органы безопасности и органы военной контрразведки; 3) документы центрального аппарата, территориальных структур органов безопасности и военной контрразведки, отражающие непосредственное использование директив по работе с бывшими военнопленными; 4) следственные дела на бывших советских военнопленных, осужденных за действительные и мнимые преступления; 5) фильтрационные дела на бывших советских военнопленных, проходивших по возвращении на Родину специальную государственную проверку, а также трофейные материалы, связанные с этой тематикой; 6) следственные дела на немецких военных преступников и учетно-проверочные дела на немцев, задержанных в 1945–1946 гг. в советской оккупационной зоне Германии и содержавшихся в лагерях НКВД–МВД СССР [25. С. 11]. Систематизация и анализ материалов позволили автору подтвердить, что во время войны и в послевоенный период в отношении военнопленных и лиц, выходивших из окружения и фактически не находившихся в плену, допускались нарушения законности и ограничения прав. Автор подчеркнул, что эти факты признаются органами госбезопасности и в настоящее время принимаются меры по восстановлению социальной справедливости [Там же. С. 15].
К работам, посвященным «фильтрационным» делам как источнику, относятся «Методические рекомендации по созданию системы управления базой данных по фильтрационно-проверочным делам УФСБ по Свердловской области», разработанные Л. Г. Сорокиной и Е. В. Вертилецкой, в которых в качестве вводной части даются историческая справка и характеристика источника [20. С. 284–300].
Отдельно следует остановиться на публикации «Судьбы военнопленных и депортированных граждан СССР. Материалы комиссии по реабилитации жертв политических репрессий» [21]. Указанная статья состоит из разделов, в которых последовательно рассмотрены нормативные документы, непосредственная деятельность соответствующих органов и положение советских граждан ука- занной категории на различных этапах. Авторы подчеркивают, что изучение документов и материалов позволяет сделать вывод о «действиях партийно-государственного руководства СССР в отношении репатриантов как о необоснованных политических репрессиях, которым подвергались все без исключения бывшие военнопленные, все взрослые гражданские репатрианты, а также все обнаруженные на освобожденной от противника территории советские военнослужащие – “окруженцы”, за исключением поступивших на службу в немецкие вооруженные силы, полицию, карательные и разведывательные органы Германии» [Там же. С. 110]. Исходя из этого, предлагается «признать незаконными, противоречащими основным гражданским правам, массовые политические репрессии, действия партийно-государственного руководства СССР» по отношению к указанной категории советских граждан и соответственно внести необходимые изменения и дополнения в Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».
Наиболее детальной разработки подверглась тема репатриации советских граждан. Вопросы репатриации и «фильтрации» тесно взаимосвязаны. Ни один из вопросов не может быть раскрыт без освящения второго. На сегодняшний день по репатриации советских граждан издан ряд научных работ, освещающих как общие вопросы, так и отражение этой проблемы в различных регионах (Г. И. Ахунзянова [2], В. П. Мотревич [13], А. Л. Шевяков [27]).
Одним из первых к данной теме обратился В. Н. Земсков. В двух статьях В. Н. Земского, опубликованных в журнале «Социологические исследования» под общим названием «Репатриация советских граждан и их дальнейшая судьба (1944–1956 гг.) [11], автор затрагивает как перемещение советских граждан на Родину (особое внимание уделяется репатриации из зон союзников), так и проверку их органами безопасности. В целом в своих статьях автор с положительной стороны рассматривает эти аспекты. Земсков отмечает, что большинство советских граждан не были настроены антисоветски и хотели вернуться в СССР. Он пишет, что сложившееся мнение о том, будто все репатрианты были репрессированы – ложно. Большинство избежало репрессий, «даже многие прямые пособ- ники фашистов были приятно удивлены отношением к ним на Родине». Автор видит и много положительных моментов в создании сети сборно-пересылочных пунктов (СПП), проверочно-фильтрационных пунктов (ПФП), проверочно-фильтрационных лагерей (ПФЛ).
Внимание вопросу «фильтрации» уделено в статье П. М. Поляна «OST»ы – жертвы двух диктатур», опубликованной в 1994 г. в журнале «Родина» [15. С. 51–58]. Часть статьи посвящена немецким документам об использовании и вербовке восточной рабочей силы, об условиях пути и жизни за границей. Автор подробно описывает репатриацию советских граждан, их настроения и договоренности советского руководства с западными союзниками по этому вопросу. В статье отмечены постановления, принятые советским руководством по этой категории населения. В конце, для создания полной картины происходившего, автор упоминает о «фильтрации». Он отмечает, что особенно тяжелая судьба, недоверие и жестокая проверка ожидали узников концентрационных лагерей, участников антифашистского сопротивления. Для многих из этих людей такое пятно в биографии вызвало осложнения в последующей жизни.
Подробнее проблему репатриированных советских граждан М. П. Полян рассматривает в своей книге «Жертвы двух диктатур (остербайтеры в третьем рейхе и их репатриация)», изданной в 1996 г. [14. С. 195]. В ходе раскрытия положения репатриантов автор затрагивает вопрос «фильтрации» данной категории лиц. Однако в своей работе по вопросу «фильтрации» он опирается на исследования Земского и Шевякова о спецпроверке репатриантов. В книге П. М. Поляна «фильтрации» уделено мало внимания, он ограничивается приведением цифровых выкладок и цитированием впечатлений сотрудников спецорга-нов по этому вопросу. В исследовании отмечается, что, несмотря на безобидность идеи проверки, в глазах большинства репатриантов лагеря и сотрудники этой структуры не отличались от остальной карательной системы, что определяло и отношение к этому процессу. Отсюда небезосновательные опасения и тревога людей. Вместе с тем, как отмечалось, система действительно отличалась своей суровостью.
Отдельно один из аспектов «фильтрации» рассмотрен в статье Е. Б. Булюлиной «Со- ветские военнопленные на Родине», опубликованной в 1996 г. в журнале «Человек» [5. С. 176–179]. Работа написана на основе документов Управления проверочно-фильтрационного лагеря № 0108 УНКВД Сталинградской области, хранящихся в Государственном архиве Волгоградской области. В статье описаны условия содержания, жизни, работы и настроения контингента данного лагеря. Булюлина отмечает, что огромная часть работы по восстановлению города принадлежит этим людям. Ею констатируется, что несмотря на критику санитарного положения в лагере в докладной записке врача-инспектора, в целом санитарная ситуация в лагере была лучше, чем по городу. Относительно настроений «спецконтингента» отмечено недовольство длительным содержанием в лагере, запрещением переписки с родными, недостатком белья и обмундирования, которые выливаются в соответствующие нарушения и побеги. Автор отмечает, что тяжелые физические условия усугублялись моральными, к бывшим военнослужащим допускалось издевательское отношение со стороны личного состава лагучастка и администрации завода.
Правовое положение лиц, проходивших фильтрацию, было затронуто в статье А. Б. Суслова «Спецконтигент советского тоталитарного общества: некоторые особенности социального и правового статуса (на примере Пермской области)», опубликованной в сборнике докладов и материалов научно-практической конференции «Права человека в России: прошлое и настоящее» [22. С. 42–60]. Автор рассматривает и сравнивает правовое положение различных групп «спецконтингента», в том числе и проходивших «фильтрацию». Положение проходящих «фильтрацию» рассматривается на основе документации ПФЛ № 0302 и 241 в Пермской области. В статье изучаемые группы условно расположены в соответствии со степенью их зависимости и ограниченности прав и свобод: заключенные – проходящие фильтрацию – военнопленные – спецпереселенцы – трудармей-цы. Проходящие фильтрацию были ближе к наиболее бесправной группе – к заключенным. Их близость выражалась, в том числе, в отношении зарплаты, где они зависели от милости начальника лагеря. Сходными были также условия жилья и труда.
Изучению пенитенциарной системы Советского государства, с момента его создания до начала 1960-х гг., посвящена монография А. С. Смыкалина [18]. Исследователь рассматривает судьбы советских военнопленных после их освобождения. Он указывает, что в системе пенитенциарных учреждений СССР появляется новая категория лагерей – спецлагеря для военнопленных и интернированных, а также «особые» лагеря для советских военнослужащих, побывавших в плену и в окружении. Вместе с тем, он отмечает справедливость части репрессий в отношении бывших «окруженцев» и военнопленных. Автор утверждает, что нередко западные спецслужбы использовали советских репатриантов для решения своих разведывательных задач. Органы советских спецслужб обезвредили сотни агентов западных разведок, направленных на нелегальную работу под видом перемещенных лиц и репатриантов. А. С. Смыкалин анализирует соблюдение правовых норм в отношении граждан, прибывших в СССР из Китая, бывших русских эмигрантов, в том числе и «старых эмигрантов».
Отдельно проверочно-фильтрационным лагерям посвящена статья А. Ф. Бичехвоста [4]. Автор анализирует деятельность сотрудников органов безопасности, условия содержания лиц, проходящих проверку. А. Ф. Бичехвост приходит к выводу, что строгая изоляция в лагерях военнослужащих от внешнего мира, родных, надежная военизированная охрана, скудный рацион питания, использование в массовом порядке подневольного труда во время проверки и его несправедливая оплата свидетельствовали о том, что правовое положение проверявшихся было приближено к положению заключенных. Автор указывает, что «тщательно скрывавшиеся ранее факты об этой жестокой странице отечественной и военной истории свидетельствуют, что в процессе фильтрации при проведении следственных мероприятий нарушались процессуальные нормы, к бывшим военнопленным применялись в массовом порядке незаконные средства и методы допросов, во время которых проявлялось огульное недоверие к вырвавшимся из немецкой неволи. Унижалось их человеческое достоинство, применялось физическое воздействие, нарушалась их призумция неви- новности» [Там же. С. 280]. Автор подчеркивает, что военнослужащие, находившиеся в ПФЛ, в большинстве своем не совершали никаких преступлений перед государством, а более того, стали в силу некомпетентности и беспечности руководства страны первыми жертвами неподготовленности к войне. А. Ф. Бичехвост видит в «нарушавшиеся в ПФЛ правах и свободах граждан одно из проявлений культа личности Сталина и трагизм истории советского народа».
Помимо разработки тематики в научных изданиях, в последние годы было проведен ряд исследовательских работ, отразившихся в диссертациях, они основаны на материалах региональных архивов.
В исследовании И. В. Говорова освещаются процесс репатриации советских граждан на Северо-Западе РСФСР и особенности фильтрации репатриантов [9]. В основе работы лежат преимущественно материалы Ленинградской области. Названный автор рассматривает работу советских и партийных органов по приему, размещению и трудовому устройству репатриантов, а также работу приемно-распределительных пунктов по учету и распределению репатриированного населения. Автор приходит к выводу, что процесс фильтрации репатриантов представлял собой многоступенчатую систему проверки, которая не имела законодательного регулирования со стороны государства, в связи с этим судьба репатриированных лиц находилась в руках сотрудников проверочно-фильтрационных органов.
Предметом исследования В. Ю. Альбова стало положение советских военнопленных в период их пленения и после возвращения из плена на Родину, а также отношение органов советской власти к семьям военнопленных, и аналогичные вопросы, касающиеся гражданских лиц, оказавшихся на оккупированной территории [1]. В основе исследования лежат материалы Нижегородской области. В своем исследовании названный автор подчеркивает, что создание проверочно-фильтрационных лагерей было обоснованной мерой. Помимо опасности заброски вражеской агентуры, внимание руководства уделялось информации о происходившем на фронте, о массовых случаях сдачи в плен, переходе с оружием в руках на сторону врага, дезертирстве. Наряду с другими авторами В. Ю. Аль- бов также отмечает, что карательный характер начального периода войны был вызван, прежде всего, сложившейся обстановкой. В первое послевоенное время, противоправные действия по отношению к бывшим военнопленным и ущемление их законных прав имели место в меньшем масштабе, чем это принято считать. Автор утверждает, что направление на два-три года в угольную промышленность не являлось репрессивным актом. В условиях потребности в рабочей силе в определенных отраслях, привлечение данной категории граждан к такой работе, видится автором более обоснованным, нежели использование в этих целях вернувшихся домой фронтовиков. Важным выводом стало то, что точка зрения «о бездумных и поголовных репрессиях в отношении семей военнопленных не находит документального подтверждения» [1. С. 25]. Высылке подлежали лишь семьи приговоренных к высшей мере наказания, и вместе с тем в этом случае имело место множество исключений.
Е. В. Вертилецкая в своей работе, посвященной репатриантам Свердловской области, вместе с тем подробно останавливается на вопросах учета, фильтрации, розыска и репрессиях в отношениях репатриантов [7]. Автор приходит к выводу, что введение института государственной проверки было вызвано объективными причинами. Одной из причин была необходимость предотвратить попадание на территорию Советского Союза агентов германских спецслужб и разведок западных государств, другой причиной явилось необходимость привлечения рабочих рук в различные области экономики. Автор отмечает, что наладить проверку большого количества прибывавших репатриантов было нелегко. Однако проверочно-фильтрационные комиссии справились с возложенной на них задачей. Останавливаясь на методах проверки, автор подчеркивает их стандартность практически для всех проверяемых, вместе с тем отмечаются негативные стороны в методах ведения «фильтрации». В работе подробно освещены материалы по двум, находившимся в области, проверочно-фильтрационным лагерям (ПФЛ).
Автором установлено, что «фильтрация» в лагерях была более жестокой по сравнению с проверкой по месту жительства и в рабочих батальонах. Режим содержания сопоставим с режимом исправительно-трудовых лагерей. Перед ПФЛ Свердловской области помимо проверки стояла задача обеспечения рабочими руками Свердловских бокситовых рудников и стройки «Тагилстой», с чем, как отмечает Е. В. Вертилецкая, указанные лагеря справились. Е. В. Вертилецкая подчеркнула, что в условиях, когда большая часть из внутренне перемещенных лиц и репатриантов не была изменниками родины и шпионами, содержание их в лагере являлось необоснованной репрессией.
В исследовании приведены материалы на отдельных репатриантов, признанных виновными в измене Родине, и статистические данные по выявлению предателей. Изученные материалы приводят автора к выводу, что «данные о числе настоящих вредителей не доступны исследователям, а факт необоснованного осуждения большого числа репатриантов ставит под сомнение эффективность методов работы органов госбезопасности. Методы ведения следствия и большое количество реабилитированных и восстановленных в званиях репатриантов свидетельствуют о незаконном характере части репрессий» [Там же. С. 153].
Еще одно исследование по репатриантам проведено И. Н. Толстых на основе материалов Новгородской области [23]. Эта работа посвящена организации, основным направлениям и формам деятельности центральных и местных органов репатриации по материально-бытовому устройству репатриантов в Новгородской области, идеологическому воздействию на них и изучению их демографических характеристик. По данным И. Н. Толстых, самой многочисленной возрастной группой среди репатриантов являлись дети до 16 лет. Сильный дисбаланс был отмечен между мужской и женской частью репатриированного населения, что связано с мобилизацией на фронт мужского населения. Почти одну шестую долю от общего количества репатриированного населения составляли пожилые люди в возрасте 55 лет и старше. Таким образом, большая часть репатриантов Новгородской области, по сути, не подлежала «фильтрации».
Упомянутые выше работы, посвященные репатриантам, в большей степени относятся к анализу вопросов, связанных с контингентом, проходящим проверку. С другой точки зрения аспекты «фильтрации» затронуты в диссертации А. И. Вольхина, посвященной деятельности органов государственной безопасности Урала и Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны [8]. Особый интерес для создания полной картины проверки вызывают разделы об организационной структуре и кадрах органов безопасности, а также о выявлении и розыске изменников Родины, предателей и пособников немецких оккупантов.
Помимо указанных научных работ, в последние годы появился целый ряд статей, в которых поднимаются вопросы правомерности, справедливости, законности, предпринятых советским руководством мер по отношению к гражданам, побывавшим в плену. Активная дискуссия на эту тему ведется в статьях на интернет-сайтах.
Среди авторов, обратившихся к этому вопросу, М. Валентинов [6]. В своей статье автор приводит цитаты из приказа № 270 и анализирует принимавшиеся действия и позицию руководства по отношению к лицам, попавшим в плен, окружение. Автор подчеркивает, что недоверие, с которым относились ко всем вышедшим из окружения или бежавшим из плена, было связано с вопросами жизни и смерти. Чрезмерная доверчивость часто становилась причиной гибели целых подразделений. Поражения на фронте приводили к деморализации войск, в результате дезертирство и массовая сдача в плен приобрели огромный масштаб. Таким образом, автор приходит к выводу, что принимаемые руководством решения соответствовали обстановке и решали насущные задачи. Вместе с тем отмечается, что не каждый попавший в плен рассматривался как предатель. М. Валентинов подчеркивает, что «война – не лучшая пора для гуманистов» и «за измену и сотрудничество с врагом отступников карали всегда и везде, даже в самых образованных демократических государствах» [Там же. С. 9]. Позицию М. Валентинова поддерживает в своей статье А. Черкасов [26].
Большой интерес представляют собой различные воспоминания о репатриации и проверке [24]. Этот источник носит несколько односторонний характер, так как нами не встречено воспоминаний, в которых события оценивались бы их участниками положительно.
В связи с рассматриваемым вопросом необходимо упомянуть источники, в которых непосредственно не затрагиваются проблемы «фильтрации», вместе с тем они отражают общую картину рассматриваемого периода. К такого рода материалам относятся публикации, посвященные работе органов безопасности [10], коллаборационистам [17], военнопленным и ряду других вопросов.
В целом же в оценках авторов, обращающихся к вопросу «фильтрации», встречаются две различные позиции. Одни оценивают «фильтрацию» как определенную форму репрессий и трагедию огромного количества людей (П. М. Полян, Л. П. Беляков [3], Е. Соломатина). Другие рассматривают «фильтрацию» как объективную необходимость, без которой нельзя было выиграть войну, не отрицая определенных негативных моментов (А. Черкасов, М. Валентинов, В. Ю. Альбов).
Таким образом, за последние годы произошло количественное и качественное углубление в рассмотрении «фильтрации». Однако масштабных исследований, непосредственно посвященных вопросам «фильтрации», насколько нам известно, не появилось. В большинстве исследовательских работ «фильтрация» затрагивается в связи с раскрытием тех или иных аспектов государственных репрессий и дискриминации, связанных с ходом и последствиями Великой Отечественной войны, вопросов репатриации, деятельности органов НКВД, НКГБ, НКО «СМЕРШ».
Материал поступил в редколлегию 16.10.2007