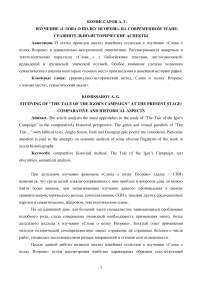Изучение «Слова о полку Игореве» на современном этапе: сравнительно-исторические аспекты
Бесплатный доступ
В статье проведен анализ новейших подходов к изучению «Слова о полку Игореве» в сравнительно-исторической перспективе. Рассматриваются жанровые и текстологические параллели «Слова…» с библейскими текстами, англосаксонской, ирландской и грузинской эпической поэзией. Особое внимание уделено попыткам семантического анализа некоторых «темных мест» произведения в новейшей историографии.
"темные места", семантический анализ, слово о полку игореве, сравнительно-исторический метод
Короткий адрес: https://sciup.org/147249944
IDR: 147249944 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Изучение «Слова о полку Игореве» на современном этапе: сравнительно-исторические аспекты
При детальном изучении феномена «Слова о полку Игореве» (далее – СПИ) выяснится, что среди целой плеяды сопряженных с ним проблем и вопросов едва ли можно найти более важные, чем затрагивающие изучение данного произведения в рамках сравнительно-исторического метода, сопоставляющие СПИ с эпосами других средневековых народов в семантическом, жанровом, текстологическом плане.
На сегодняшний день для большей части специалистов, занимающихся проблемами подобного рода, стала совершенно очевидной необходимость применения иного, более детального подхода к изучению «Слова о полку Игореве». Богатый опыт применения методов исторической компаративистики нашел отражение на страницах большого числа работ, созданных исследователями разных направлений и степени подготовленности.
Целью данной работы является анализ новейших подходов к изучению «Слова о полку Игореве» путем рассмотрения наиболее характерных образцов сопутствующей историографии на современном этапе. Главные задачи, поставленные в рамках данной работы, могут быть сформулированы следующим образом:
-
1) выявить общие связи «Слова о полку Игореве» с библейско-христианской книжностью и затронуть проблему наличия жанровых и текстологических параллелей «Слова…» и поэмы «Витязь в барсовой шкуре», основываясь на работах Г. Ю. Филипповского;
-
2) обозначить основные сходные черты текстовых мотивов «Слова…» и фрагмента древнеирландского «Списка со снежного холма», выявленные в процессе исследования Г.В. Бондаренко;
-
3) изучить попытки семантического анализа «темных мест» «Слова …», предпринятые в работах А. Ю. Чернова и К. А. Жукова.
В 2015 и 2016 гг. увидели свет три новые работы известного исследователя СПИ, ярославского филолога Г. Ю. Филипповского: статьи «Современные проблемы изучения «Слова о полку Игореве» [1] и «Слово о полку Игореве и «Витязь в барсовой шкуре»: аспекты сравнительной поэтики» [2], а также монография «Средневековая идентичность «Слова о полку Игореве» [3].
Г. Ю. Филипповский начинает с констатации того факта, что проблема соотнесения библейско-христианской книжности и «Слова…» давно находит отражение в научных работах разного уровня: здесь и написанная в 1926 г. монография академика В. Н. Перетца «К изучению «Слова о полку Игореве», вторая и третья главы которой как раз посвящены вопросам соотнесения «Слова…» и библейско-христианской книжности (вторая – связям «Слова…» и Библии, третья – параллелям текста «Слова…» и «Повести о разорения Иерусалима» Иосифа Флавия), и публикация 1912 г. за авторством киевского историка Г. М. Бараца «О библейском элементе «Слова о полку Игореве», и более ранние публикации П. П. Вяземского и Д. Н. Дубенского [3, с. 12].
В основном сопоставление «Слова…» по его тексту в издании А.И. Мусина-Пушкина 1800 г. и текстов библейско-христианской книжности проводились и Перетцем, и многими другими учеными в плане словарно-фразеологических сопоставлений, параллелей. В качестве объектов сравнения привлекались тексты Паремийников, Псалтири, ветхозаветные книги (Бытия, Исход, Судей, Царств, Екклесиаста, Есфири, Пророков), а также Апостол, Евангелия, Апокалипсис [3, с. 13].
Впоследствии Д. С. Лихачев отметит некую «механичность» подобного рода сопоставлений, что найдет отражение в одном из его текстов 1953 г.: «Эти связи есть, но в старинной исследовательской литературе они сильно преувеличены. К различным выражениям «Слова…» были механически подобраны многочисленные параллели из 2
летописи, из «воинских повестей», из переводной «Хроники Манассии», из «Повести о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия, из Библии…» [4].
В похожем тоне отзывался о словарно-фразеологическом сопоставлении текстов и Н. К. Гудзий, отмечая, что наличие параллелей свидетельствует, в первую очередь, об общих для «Слова…» и христианских памятников поэтических формулах. Г. Ю. Филипповский предполагает, что характер высказываний Д. С. Лихачева свидетельствует о недостаточном ознакомлении последнего с трудами своих предшественников, в работах которых имело место быть не только «механическое» сопоставление текстовых деталей, но и замечания относительно композиционной составляющей текстов. По мнению ярославского филолога, именно аспекты композиционного строения выходят на первый план и имеют особое значение в проблеме библейско-христианских мотивов в «Слове…» [3, с. 12–14].
Суть сюжетообразующей концепции «Слова…» сводится к известной антиномии «свет-тьма», причем если в первой половине поэмы «тьма» сознательно «сгущается» автором, то во второй и в особенности ближе к финалу усиливается тема победы «света» над «тьмой» вслед за основополагающими словами Христа, донесенными до нас в Евангелии от Иоанна. Обращаем внимание на тот факт, что «тьма», равно как и все ее синонимы, является не просто отсутствием света, а активным действующим началом, а борьба с врагами автоматически трансформируется в «Слове…» в противостояние «света» и «тьмы». После плача Ефросиньи Ярославны сюжетно композиционный финал «Слова…» начинается словами «Богъ путь кажетъизъ земли половецкой на землю рускую», герои спасаются из плена и возвращаются на родную землю. Филипповский констатирует, что благодаря трудам Перетца, Панченко, Лихачева, Николаева и Смирновой основополагающую в сюжете СПИ роль христианского мотива «свет-тьма» можно считать доказанной [3, с. 19].
Филипповский также приводит целых восемь тезисов, посвященных проблеме сопоставления текстов «Слова…» и англосаксонской эпической поэмы «Беовульф», особо акцентируя внимание на том, что ранее исследователи проводили лишь отдельные параллели между произведениями и приводя доказательства существования полноценной семантической связи между ними [3, с. 31–32].
«Витязь в барсовой шкуре» – эпическая поэма конца XII века средневекового грузинского поэта Шота Руставели. Отдельных исследований, посвященных поиску параллелей между «Словом…» и «Витязем», еще не проводилось, хотя в работах А. Н. Робинсона, В. Д. Кузьмина и В. Ф. Шишмарева были выявлены параллели и соотносительные черты между двумя текстами [2]. В силу того, что оба произведения являются авторскими, а не фольклорными, им присущи рассуждения о выборе жанра или о жанровой номенклатуре. Особенностью вступительной части обеих поэм является смешение 3
письменно-поэтических и устно-поэтических жанровых форм. Нельзя не отметить и то обстоятельство, что сюжетообразующим мотивом «Витязя» является противопоставление «света» (как «божественного», так и «света любви», служащего для главных героев в качестве основного мотиватора – у автора они равноценны и взаимно дополняют друг друга) и «тьмы», а мотив победы первого над последней положен в основу финала произведения, что безусловно сближает его со многими другими образцами средневековой эпической книжности, включая и «Слово…», и «Беовульф», и «Песнь о Нибелунгах». Филипповский акцентирует внимание на теме любви как одной из важнейших составляющих сюжета поэмы: победа «света» над «тьмой» выражена в нем свадьбой главных героев (Автандила и Тинатин, Тариэля и Нестан-Дареджии) [1], а мотив божественного света сочетается в финале со средневековой темой идеального правления [2].
Современный российский культуролог, журналист и специалист по истории кельтов Г. В. Бондаренко в своей статье 2008 г. «Hibero-Rossica: «знание в облаках» в древнеирландской и древнерусской мифопоэтической традиции» [5] проводит параллели между древнерусским текстом и изложенным ниже фрагментом древнеирландской рукописи VIII века «Список со снежного холма» (ирл. Cín Dromma Snechta), носящим название «Разговор друида Брана и пророчицы Февала над заливом Лох Февуль» (ирл. Immaccallam in druad Brain ocus inna Banfhátho Febuil hóas Loch Fhebuil, далее – IDB) [5, с. 314]. Исследователи давно допускали возможность неправильного прочтения и неверного перевода оригинального текста IDB, вследствие чего истинный смысл оказался утрачен. Поэтому Бондаренко, опираясь на расшифровку британского исследователя Дж. Карни (John Carney), произвел собственную реконструкцию, в результате чего получил следующий перевод:
Когда мы были в крепости Брана
И пили холодной зимой
Среди людей [мое знание?] связало сильных мужей,
Когда мое знание поднялось к высоким облакам.
Данный отрывок представляет собой разговор анонимных жреца и провидицы, созерцающих затопленное водами залива Лох Февуль королевство Февала, отца Брана. В разговоре с собеседницей жрец ассоциирует себя со знанием или даже со специфическим «даром» познания (fius): он вспоминает, как потерпел поражение в битве (причем по контексту становится понятно, что это вовсе не военное сражение), как во время пира в крепости Дун Брань его душа (вернее, знание) покинула тело и поднялась к «высоким облакам», и что сие знание связывает между собой всех воинов. Отметим, что у кельтских народов функции жреца и провидицы почти всегда совпадали: предсказание будущего не входило в круг их интересов, напротив, они всегда обращали свой взор в прошлое.
СПИ также содержит отрывок со схожим содержанием и композицией, а именно:
О Бояне, соловïю стараго времени!
абы ты сïя плъкы ущекоталъ, скача славïю по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени, рищя въ тропу Трояню чресъ поля на горы [6].
Полулегендарный поэт и сказитель Боян представлен в поэме как архетипический поэт и провидец, некий «идеальный» сказитель. И в IDB, и в СПИ прослеживается личная неуверенность автора и акцентирование внимания на магическом характере процесса исполнения песни: разум певца СПИ также покидает тело и устремляется к облакам.
Как мы видим, оба отрывка описывают особый вид практик, к которому прибегали древние сказители; выраженные в виде поэтических формул процессы могут считаться магико-шаманскими действиями, еще хорошо известными и в Ирландии VII-VIII вв., и на Руси конца XII века. Проще говоря, исполнение песни является особым ритуалом, совершаемым специальными людьми. Исследователи не сошлись окончательно во мнении, могут ли считаться ирландские друиды (druïd) и славянские «в ѣ щiи» полными аналогами, ибо последний, в отличие от волхва (влъхвъ), не исполнял жреческих функций. Однако протагонисты и древнерусского, и древнеирландского фрагментов являются поэтами и жрецами в одном лице, следовательно, в контексте СПИ термин «в ѣ щунъ» может считаться синонимичным «друиду». Общая для обоих текстов поэтическая формула может быть выражена следующим образом: «УМ» летит к «ВЫСОКИМ ОБЛАКАМ» и «СВЯЗЫВАЕТ» «ЧТО-ТО/КОГО-ТО». Ирландский вариант первого элемента формулы «fius» происходит от протоиндоевропейского корня *uid- (видение, знание). Следует отметить, что ирландское «fius» зачастую подразумевает метафизическое восприятие; такое знание не усваивается последовательно, а может быть получено только с помощью вдохновения. Древнерусское «умъ» тоже имеет целый ряд значений («дар познания», «мысль», «душа», «знание») и восходит к другому протоиндоевропейскому корню *-au с аналогичным значением.
свою очередь, также взлетает «шизымъ орломъ подъ облакы». Применительно к IDB и СПИ под облаками следует понимать потусторонний мир, но не «неподвижные» небеса, где обитают боги, а скорее один из промежуточных уровней верхнего мира, служащий обителью человеческих мыслей. Отдельного упоминания достоин присутствующий в тексте СПИ орнитологический символизм: Боян ассоциируется либо с соловьем («соловiю стараго времени», «скача, славiю, по мыслену древу»), либо с орлом («шизымъ орломъ подъ облакы») и устремляется к облакам именно в птичьем обличии. Ирландские друиды и филиды также зачастую связывались с птицами, более того, им предписывались способности превращаться (оборачиваться) в птиц, покидать в таком виде собственное тело и даже переселяться в другое. Распространенным среди них ритуальным одеянием часто служили либо головные уборы, либо целые костюмы из птичьих перьев.
Что касается упомянутого в формуле процесса «СВЯЗЫВАНИЯ», то он больше характерен для древних законодательных памятников и употребляется скорее в переносном смысле: «связь» означает не столько даже «договор», сколько «подготовленность» субъекта к ритуальному действию (пример: индуистское выражение «связанный Сома» (Sóma úpanaddhaḥ), которое обозначает как божество, так и подготовленный ритуальный напиток) [3, с. 329].
Одним из самых примечательных «темных мест» СПИ является фрагмент «РекъБоянъ и ходы на Святъславля п ѣ створца стараго времени Ярославля Ольгова коганя хоти: Тяжко ти головы кром ѣ плечю, зло ти т ѣ лу кром ѣ головы, Руской земли безъ Игоря!», в котором многими исследователями было обнаружено имя предполагаемого создателя «Слова…» -«Ходыны». По данным пятитомной «Энциклопедии «Слова о полку Игореве», его обычно переводят как «Изрекли Боян и Ходына, / оба Святославовы песнотворцы, / старого времени / Ярославова-Олегова / государевы любимцы оба...» (А. Ю. Чернов), а упоминание здесь двух певцов – Бояна и Ходыны – подтверждается, по мнению И. Е. Забелина, наличием формы двойственного числа в слове «п ѣ створца». Придворные певцы, по свидетельству Д. С. Лихачева и Д. М. Шарыпкина, могли исполнять свое произведение амебейно, то есть дуэтом, когда строчки стиха поются поочередно. Традиция амебейного пения была широко распространена на Руси, а у карело-финнов сохранялась до начала XIX в.
В то же время, с такой трактовкой были не согласны М. В. Щепкина и А. Ю. Чернов, отмечавшие, что традиция амебейного пения изжила себя уже к середине XI в., а автор «Слова…» не стал бы добавлять к рассказчику еще одного в ходе повествования. А. Ю. Чернов рассматривал слово «ходына» в качестве сфрагиды (упоминания автором самого себя в третьем лице) в тексте «Слова…», а тот факт, что оба сказителя – и Боян, и Ходына – называются «песнотворцами Святослава», объясняется тем, что они оба состояли при дворе князей по имени Святослав – Святослава Ярославича (1027-1076) и Святослава Всеволодовича Киевского (1123–1194) соответственно. В качестве одного из наиболее известных примеров сфрагиды в литературных произведениях древности Черновым приводится фраза «И это сказал Феоклид» [7]. В целом аргументы, приведенные Черновым, не являются весомыми доказательствами причастности Ходыны к созданию «Слова…», однако исследователи вполне допускают, что Ходына существовал в реальности и мог быть современником Бояна.
Одним из самых интересных и оригинальных примеров толкования «темного места» в «Слове…» является попытка объяснить смысл упомянутых в тексте «Карны» и «Жели/Жли», предпринятая российским ориенталистом К. А. Жуковым [8]. Исследователи прошлого по-разному понимали смысл этих загадочных слов: так, например, Б. А. Рыбаков считал их именами некоего русского аналога валькирий, духов-спутников погребального обряда, О. Сулейменов видел здесь искаженное словосочетание «кара жлан» (в переводе с кыпчакского – черный дракон), а А. И. Попов и вовсе полагал, что речь идет о музыкальных инструментах. Большинство исследователей традиционно считает «Карну» и «Желю» либо гипотетическими божествами (духами) плача и скорби, либо мифологическими персонажами с другими, невыясненными функциями.
Вслед за многими своими коллегами, одну из причин появления фрагментов текста с «темной» семантикой Жуков видит в возможности ошибок, допущенных переписчиками. В Екатерининской копии «Слова…» «Карна» и «Желя» имеют вид «Карнаижля», который Жуков считает метатезой изначального «Жляикарна» или даже «Жлякарнаи». Один из вариантов его объяснения предполагает наличие связи между этим фрагментом СПИ, Библией и Кораном. Жуков приводит параллели между фрагментом «за нимъ кликну Карна, и Жля поскочи по Руской земли, смагу людемъ мычючи въ пламян ѣ роз ѣ » и отрывком из Откровения Иоанна Богослова, где говорится о приходе лжепророка, подчиненного Антихристу: «И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога… и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми» (Отк. 13:11-13). Примечательно, что в 18 суре Корана «Аль-Кахф» Зу-л-карнайн (араб. «двурогий») – великий царь и пророк (часто отождествляемый с Александром Македонским), победитель языческих племен Яджудж и Маджудж и строитель стены, призванной защитить от их вторжения, упоминаемый лишь в этой части Корана в связи с описанием Судного дня, на чем Жуков акцентирует особое внимание. И царь Зулькарнайн, и двурогий спутник Антихриста являются, по мнению Жукова, наиболее убедительными и известными для язычника-половца образами грядущего Страшного суда. Таким образом, благодаря хорошему знанию автором 7
половецкого фольклора, СПИ стала одним из первых в русской истории произведений, содержащих столь необычную кораническую реминисценцию [8, с. 120–123].
Итак, на сегодняшний день мы располагаем внушительным количеством трудов, связанных с изучением «Слова о полку Игореве». Можно с полной уверенностью говорить о том, что применение метода исторической компаративистики позволило выявить множества связей «Слова о полку Игореве» и литературно-эпических памятников других народов – как индоевропейских, так и представителей других языковых семей, что было наглядно показано в работах Г. Ю. Филипповского и Г. В. Бондаренко. Авторская трактовка лексемы «Ходына», предложенная А. Ю. Черновым, является одной из самых признанных, а семантический анализ одного из «темных мест», представленный в работе К. А. Жукова, позволил обнаружить в тексте «Слова о полку Игореве» реминисценцию на Коран.
Таким образом, современные подходы к изучению данной проблематики не только дополняют старые, но и дают исследователям возможность взглянуть на природу СПИ в новом свете: стало очевидно, что это не только памятник древнерусской литературы, посвященный периферийному сюжету, но и глубоко продуманный автором текст с многочисленными отсылками к мировому культурному наследию.
Список литературы Изучение «Слова о полку Игореве» на современном этапе: сравнительно-исторические аспекты
- Филипповский Г. Ю. Современные проблемы изучения "Слова о полку Игореве" // Верхневолжский филологический вестник. - 2015. - № 2. - С. 157-165. EDN: UXQQVD
- Филипповский Г. Ю. "Слово о полку Игореве" и "Витязь в барсовой шкуре": аспекты сравнительной поэтики // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. - 2015. - № 3, Ч. 3 (сентябрь). - С. 125-126. EDN: UKLEBX
- Филипповский Г. Ю. Средневековая идентичность "Слова о полку Игореве". - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. - 452 с. EDN: XDEXCT
- Лихачев Д. С. Слово о полку Игореве: (Историко-литературный очерк) // Слово о полку Игореве / АН СССР; под ред. В. П. Адриановой-Перетц. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. - С. 229-290.
- Бондаренко Г. В. "Hiberno-rossica: "знание в облаках" в древнеирландской и древнерусской мифопоэтической традиции // Мифы и общество Древней Ирландии. - М.: Языки славянской культуры, 2015. - С. 311-330.
- Ироическая песнь о походе на половцовудельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие. - М.: в Сенатской типографии, 1800. 46 + VIII с.
- Энциклопедия "Слова о полку Игореве": в 5 т. - СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. - Т. 1. - 276 с.; Т. 2. - 334 с.; Т. 3. - 387 с.; Т. 4. - 330 с.; Т. 5. - 399 с.
- Жуков К. А. Ориентализмы и "темные места" в "Слове о полку Игореве" // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. Вып. 15. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1995. - С. 108-123.