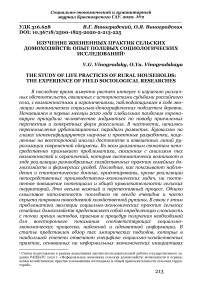Изучение жизненных практик сельских домохозяйств: опыт полевых социологических исследований
Автор: Виноградский В.Г., Виноградская О.Я.
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2 (16), 2020 года.
Бесплатный доступ
В последнее время заметно растет интерес к изучению различных обстоятельств, связанных с историческими судьбами российского села, с возможностями и ограничениями, наблюдающимися в ходе эволюции экономических социально-демографических подсистем деревни. Начавшаяся в первые месяцы 2020 года глобальная пандемия коронавируса принудила человечество задуматься по поводу приемлемых перспектив и конкретных форм расселения. В частности, началось переосмысление урбанизационных парадигм развития. Буквально на глазах интенсифицируются научные и проектные разработки, нацеленные на всесторонний анализ достоинств и взвешенных линий рурализации современной ойкумены. Ко всем указанным сюжетам непосредственно примыкает проблематика, связанная с анализом тех возможностей и ограничений, которые систематически возникают в ходе реализации разнообразных хозяйственных практик семейных домохозяйств и фермерских усадеб. Последние, как показывают наблюдения и статистические данные, ориентированы, кроме реализации непосредственных производственно-экономических задач, на постепенное повышение потенциала и общей привлекательности сельских территорий. Это весьма важный и перспективный процесс. Однако смысловая наполненность последнего не всегда очевидна и часто скрыта покровом повседневной хозяйственной рутины. В связи с этим проблематика эволюции социально-экономических практик сельских семейных домохозяйств представляет собой определенную сложность с точки зрения методов, приемов и процедур получения необходимой для всестороннего понимания соответствующих социально-экономических процессов, надежной и адекватной информации. В статье представлен обзор тех эмпирических подходов, которые в наибольшей степени отвечают специфике социально-хозяйственных практик, основанных на неформальных экономических инициативах домохозяйств. Авторы опираются на многолетний исследовательский опыт полевых крестьяноведческих экспедиций.
Сельские семейные домохозяйства, хозяйственные практики, качественная социология, неформальная экономика, семейные истории, "голоса снизу"
Короткий адрес: https://sciup.org/140249969
IDR: 140249969 | УДК: 316.628 | DOI: 10.36718/2500-1825-2020-2-213-225
Текст научной статьи Изучение жизненных практик сельских домохозяйств: опыт полевых социологических исследований
Введение. Около тридцати лет назад, с середины 1990-х годов, было положено начало нашим собственным полевым социологическим опытам, сосредоточенным на вполне, казалось бы, элементарной, рутинной, из сезона в сезон возобновляющейся картине привычных хозяйственно-экономических действий, поглощающих практически все жизненное время сельских жителей и образующих основную опору их повседневного сельского существования. Общая задача и содержательная наполненность подобных исследовательских экспедиций формулировалась так же, на первый взгляд, элементарно: регистрация происходящих в крестьянских семейных домохозяйствах производственных акций, система которых позволяет членам крестьянского двора обеспечить определенный, детерминированный местными природными условиями, хозяйственными традициями, устоявшимися представлениями о неких социально-культурных нормах уровень, качество и общий образ социального воспроизводства. Проще говоря, нам было важно узнать из первых рук, как и чем живут люди, жизненная ситуация которых обусловлена фактом их постоянного деревенского пребывания.
Подобного рода исследовательская нацеленность имеет в России богатую традицию. Ее жанровые разновидности также многообразны – от очеркистики писателей-народников (П. Засодимского, Н. Златоврат-ского, Г. Успенского), художественных текстов Л. Толстого, И. Бунина и публицистики писателей-деревенщиков второй половины XX века (В. Астафьева, В. Белова, Ф. Абрамова, В. Шукшина). Заглавие одного из сборников статей на деревенские темы Ф. Абрамова «Чем живем-кормимся» [1] довольно точно выражает глубинную интенцию отечественного исследовательского и аналитического интереса к деревне. Однако в наших научных опытах важно было не только погрузиться в многоразличные детали ситуаций, характерных для производственноэкономических акций сельских домохозяйств, но и аналитически извлечь из данного жизненного раствора его эссенциальные, сущностные характеристики.
Цель . Исследование вопросов, как выглядит общая картина кре-стьяноведческих исследований, рассматриваемых в качестве системы эмпирических социологических процедур и в чем состоят итоги реализации и методологического осмысления авторских опытов крестьяно-ведческих исследований сельской России?
Результаты и их обсуждение. Как уже было отмечено, большая часть исследований деревни и села, которые целесообразно отнести к новейшему по времени, то есть по-настоящему современному этапу отечественного крестьяноведения, приурочено к началу 1990-х годов. Именно тогда были выполнены довольно масштабные макросоциологи-ческие исследования советского села [2]. Уже позже, в постсоветский период, наметилась тенденция к изменению масштаба рассмотрения объекта эмпирического исследования. Информационно-познавательный и аналитический интерес был перенацелен на уровень непосредственных событий, происходящих в локальных сельских сообществах. В дополнение к традиционному социологическому инструментарию - массовым анкетным опросам и оперированию со статистическими информационными массивами (что в предыдущий период было наиболее распространенной практикой) - начали интенсивно использоваться методические приемы качественной социологии – глубинные интервью и включенное наблюдение. Информантами стали представители конкретных деревенских сообществ.
Важнейшими методами, включенными в арсенал эмпирических подходов к исследованию неформальной экономики, – методами, обеспечивающими надежную представительную выборку, являются методы невероятностной (неслучайной) выборки. Как отмечено и подчеркнуто в соответствующих методических разработках, неслучайная (иначе говоря – невероятностная) выборка представляет собой некий специфический прием отбора единиц наблюдения и выборки. И в данном случае исследователь не в состоянии с окончательной точностью предугадать вероятность того, что нужный, именно требуемый для данного исследовательского кейса респондент наверняка окажется в пространстве выборочного массива. Это обстоятельство является основной причиной, по которой отдается предпочтение именно вероятностной, то есть заведомо более точной выборке. Однако преимущество неслучайной выборки состоит в возможности более глубокого, качественно разнообразного и многостороннего видения предмета социологического исследования. К основным разновидностям неслучайной выборки относятся: 1) квотная; 2) «снежного кома»; 3) стихийного отбора. Генеральная цель неслучайного отбора заключается в формировании совокупности, репрезентирующей изучаемый объект. Наиболее распространенным и надежным методом отбора считается метод так называемого «снежного кома». Последний представляет собой вариант, своеобразный механизм целеустремленного выбора респондента. Давая возможность наматывать на себя все новые человеческие группы и сообщества, метод «снежного кома» позволяет сохранить в основном массиве всех уже опрошенных. Приглашение любого очередного информанта незримыми нитями привязано к уже состоявшимся процедурам интервьюирования ранее отобранных. Таким образом, методика, обозначенная как «снежный ком», выполняет свою роль, будучи некой естественной разновидностью целенаправленного отбора. В данном случае происходит следующая нехитрая, но вполне надежная операция: селекция всякого очередного респондента происходит с учетом результатов интервьюирования персон, отобранных ранее. Именно они, после того как прошли процедуру интервьюирования и поняли специфичность и контуры нужного интервьюеру информационного пространства, способны назвать наиболее компетентных и полезных для продолжения исследования респондентов. Подобного рода процедура используется при изучении редких, особенных, специфических социальных общностей. Особенность метода «снежного кома» заключается в том, что здесь совершенно необходим первый, в идеале безошибочный, шаг. Разумеется, это вопрос профессионального социологического опыта исследователя и, конечно, везения. Здесь выбор каждого последующего респондента делается по совету и рекомендации респондента предыдущего, опрошенного накануне. Респондент сообщает интервьюеру, как и где нужно искать интересующих его информантов (нередко связываясь с ними и делая рекомендацию). В результате выборка пошагово разрастается, напоминая технологию скатывания снежного шара. На основе такого подхода целесообразно формировать состав эффективных фокус-групп [3, с. 42-44].
Некоторые методические вопросы, возникающие в ходе исследования, формулируются следующим образом. Целесообразно ли обращаться к так называемому «коллективному информанту»? И способна ли любая сельская (крестьянская) семья полноценно выполнить подобного рода ролевую задачу? При ответе на эти вопросы мы исходим из совершенно конкретного опыта экспедиционного социологического исследования, проведенного в последний полевой сезон. Поскольку данное исследование было задумано как попытка проанализировать влияние неформальной экономики сельских домохозяйств и вообще неформальных хозяйственных практик на повышение уровня привлекательности сельских территорий, то необходимо было решить следующий методический вопрос, а именно: предварительно вычленить тот предметный уровень, который обладает необходимой и достаточной информационной емкостью. Таким уровнем, который одновременно совпадает с итогами операции дробления сельского сообщества на его первичные элементы, является не отдельный индивид, а конкретное сельское домохозяйство. Последнее существует в подавляющем количестве случаев в виде полноценной, в идеале трехпоколенной деревенской семьи.
Именно семья, и не что иное, как сельская семья, - самодостаточна. Ведь за каждым ее членом неотменимо встает и числится богатый и весьма разнообразный опыт работы на земле, а также те социальнокультурные правила и привычки, которые обеспечивают и нормализуют наличную полноту жизненных практик данной семьи в пространстве данного локального сообщества. Деревенская семья выступает и как деятельный персонаж, и как свидетель, и как хроникер того событийноисторического поля, в котором она движется - прямолинейно, неуклонно, в соразмерности с траекториями других членов локального сельского социума. Еще более важным оказывается следующее обстоятельство: неформальные хозяйственно-экономические практики конкретного сельского домохозяйства, по нашим систематическим наблюдениям, оказываются в их целостности портретным отражением данной семьи. Иначе говоря, эти практики вполне изоморфны тем разнообразным, но при этом определенно выстроенным, именно семейным (родовым, «фамильным»), прочно сложившимся привычкам, которые отражают паттерны трудового и социально-культурного действования данной семьи. Полагая именно сельскую семью в качестве основного источника информации по исследуемой проблематике, мы тем самым получаем возможность не упустить на самых первых, и потому ответственных, этапах исследования важнейших констант деревенского присутствия, здесь-бытия: какого ты «рода-племени», какой ты работник, какова твоя репутация в данном локальном социуме.
Именно поэтому в любых социологических процедурах, нацеленных на изучение тех возможностей и ограничений, которые сопровождают осуществление хозяйственных практик, способных внести ощутимый вклад в повышение потенциала и общей привлекательности сельских территорий, нельзя нацеливаться на исключительно выборочную позицию в отношении основных информантов, пренебрегая остальными членами сельского семейного домохозяйства. Как полноценный субъект неформальных социально-экономических практик именно семья в лице ее как активных агентов, так и акторов «второго плана» (стариков и детей) способна оказаться достаточно объективной, не упускающей никаких важных обстоятельств своей жизни, когда в ходе социологических опросных процедур будет осуществлять реконструкцию обстоятельств собственного повседневного существования.
Какие способы получения релевантной информации следует признать наиболее приоритетными, на которые преимущественно и ориентироваться в ходе полевых процедур? Начиная исследование, нужно уже на его стартовой позиции всесторонне обдумать важный вопрос – какого рода и масштаба информационное пространство окажется с точки зрения его содержательности для нас наиболее ценным? Наиболее целесообразным в данном случае может явиться решение, в соответствии с которым сосредоточиваться в ходе сбора необходимой эмпирии следует не столько на сугубо целевой, ориентированной на проблемное ядро информации, а опираться на достаточно обширный, включающий в себя ряд попутных, смежных, дополнительных сюжетов, свободный повествовательный поток. Подобного рода исследовательская установка, разумеется, повышает трудоемкость полевых социологических процедур, но дает реальный шанс не упустить неких не заметных на первый взгляд факторов и обстоятельств, которые могут действенно повлиять на процессы и перспективы повышения привлекательности сельских территорий.
Таким образом, в состав главного информационного корпуса исследования должны в первоочередном порядке включаться те разнообразные сведения, которые накапливаются в самом процессе записи устных семейных историй. Подобного рода исследовательская ориентированность обусловливается следующим важным обстоятельством: в повседневных хозяйственных практиках семейных домохозяйств, рассматриваемых в их неформально-экономической проекции, только полноценная, многоаспектно изложенная и зафиксированная семейная история в состоянии удержать в своем информационном пространстве все возможные (а также мыслимые) сюжеты и действия, в которых так или иначе обнаруживаются разнообразные по своему содержанию именно неформально-экономические смыслы.
Интерпретация социологического инструментария, нацеленного на семейные истории, в качестве наиболее надежного метода универсализации информационного пространства была достигнута в результате пилотажного испытания различных по степени углубления в материал опросных методик. Именно в процессе пилотажа мы систематически убеждались в том, что респонденты, заподозрив в наших вопросительных конструкциях некий специализированный, сугубо научный интерес, с инстинктивной опаской (а порой и с осознанной решительностью) заметно сворачивали информационное пространство и даже прекращали разговор. В результате мы могли многократно удостовериться в справедливости процедурного правила, неоднократно проверенного и подтвержденного еще в ходе экспедиционного крестьяноведческого проекта, организованного в начале 1990-х годов Теодором Шаниным. А именно: информационный поток, идущий из уст бесхитростных и простодушных крестьян, не может быть управляем старанием исследователя любой ценой, не считаясь с временными и трудовыми затратами, буквально «во что бы то ни стало» обзавестись материалом, процесс добывания которого обусловлен одним только кругом заранее намеченных задач, которые целиком обусловлены необходимостью выполнения ряда неких сугубо научных, специализированных и, что неизбежно, - лимитированных целевых установок. Интерес к собеседнику должен быть не столько заведомо исследовательским, сколько общим, житейским, взаимным. То есть необходимо систематически отвечать на вопросы самого респондента, интересующегося исследователем, надо непременно рассказывать и о себе. Тогда семейная история респондентов, носителей неформальных экономических практик, становится подлинно открытой, и уже внутри этого сплошного, на первый взгляд, синкретичного информационного потока появляется реальная возможность вычленения неких специализированных, важных для задач именно настоящего исследования, информационных блоков [4].
Подобного рода тактика эффективна и в чисто психологическом отношении. Если респондент увлекся разговором, начал входить в подробности, почувствовал непритворный интерес к общему ходу и деталям своего индивидуального, а также семейного повседневного бытия, если он сам ощутил занимательность воспоминаний и энергетику воссоздания картин былой и нынешней жизни, если он, как часто случается, начал погружаться в очевидно факультативные темы, то ни в коем случае не следует собеседника останавливать, обрывать на полуслове, делать скучающее лицо. Соответственно, не следует в ускоренном, экономном режиме ставить перед респондентом очередные вопросы, если понятно, что он не успевает выговориться. Не совсем прилично торопить собесед- ника, переключать в нужное исследователю русло его самостоятельные повествования.
Изложенный здесь в общих чертах данный способ добывания исходной социологической информации и для интервьюера, и для респондента несравненно более труден и утомителен, чем обычный анкетный опрос. Но именно этот метод оказывается в наибольшей мере подходящим и весьма плодотворным для углубленного и многогранного вхождения в разнообразные ситуативные картины повседневного существования конкретной сельской семьи. В результате применения этого метода возможно достичь подлинного понимания биографической и исторической наполненности выпавшей им деревенской судьбы.
Таким образом, специфический характер методов и процедур обретения нужной информации обусловлен прежде всего гуманистическими соображениями. Соблюдение исследовательской дисциплины, безусловная строгость сформулированной научной задачи не должны препятствовать принципиальной бережности, неформальности, ненасильственности контактов с сельскими респондентами. Получаемые сведения не «выколачиваются» из владельцев семейных домохозяйств, как это можно наблюдать в разного рода журналистских информационнопропагандистских сюжетах и зарисовках с их обязательным позитивистским напором. В подобных случаях искомого результата – объемного, включающего удачи и провалы, достижения и срывы, – исследователь может и не получить. В работе с сельскими респондентами сокращенных, экономно-схематизированных путей к искомой рационализированной феноменологической картине не бывает.
Кстати, здесь проходит одна из содержательных разграничительных линий между городским и сельским миром. Именно поэтому не следует добиваться от сельских жителей неких обобщений, однозначных оценок их повседневного существования. Представления о мире, отраженные в сознании и закрепленные в поведенческих привычках, манерах работы, способах выполнения необходимого набора хозяйственноэкономических действий (то есть всего того, что принято называть «mo-dus operandi»), предельно конкретны, существуют в россыпи живописных подробностей, привязаны к разнообразным, порой уникальным жизненным ситуациям. Все мыслимые оценки, подытоживания, обобщающие суждения не выпирают из нарратива, как это бывает в разного рода «ученых беседах». В сельских мирах они органично растворены в океанах повседневного опыта. Они растут из бытийных глубин, возникают внизу, в тишине жизненных практик, веерно распределенных гендерными и возрастными предустановлениями, а не накладываются на картину сущего в виде готовой доктрины.
Разработанный социологический инструментарий только в ограниченном количестве исследовательских контактов с респондентом способен от начала до конца завершить свою работу – запланированная, как правило, однократная встреча и даже длинный разговор с респондентом не позволяет осуществить исследовательскую акцию в ее безусловной завершенности. Мало того, базовый гайд полуструктурирован-ного интервью, а также сопредельные социологические инструменты (в том числе протоколы включенных наблюдений отдельных кейсов, в которых так или иначе воплощены конкретные неформальные экономические акции семейных домохозяйств) не в состоянии полноценно и закругленно выполнить роль (как это обычно и происходит в ходе полевых исследований) основной, опорной конструкции, на которой держится в его первоначально структурированном состоянии весь информационный запас исследования.
Главные, исполненные смысловой полноты информационные события происходят и становятся осмысленными в ситуациях, которые можно условно обозначить формулой «между тем». Эта лингвистическая конструкция довольно хитроумна. С ее помощью в повествовательные текстовые пространства обычно вводится некая событийная материя, которая, не будучи определенно значимой, стержневой для всего происходящего и фиксируемого пишущим, сообщает последнему значимый, порой уникальный колорит. Картина жизни приобретает дополнительный бытийный аромат и неподдельное звучание.
Так и в предприятии исследований неформальных практик сельских домохозяйств. Самое важное в их привычном осуществлении происходит именно «между», «между основным». Мы уже отмечали выше значимость феномена «оказии» в сельских трудах. Здесь налицо похожая картина, но уже развернутая в сторону процедур социологического исследования «на местности». В ходе записи основного интервью, когда происходят очередные, повторяющиеся контакты с выбранным респондентом, постоянно происходят моменты сознательного или непреднамеренного возврата к уже знакомым и обсужденным вопросам. Ранее полученная информация уточняется, прирастает за счет смежных повествовательных инициатив респондента. В рассказ входят давно и недавно пережитые эмоциональные состояния, которые, не выступая в качестве неких обобщений и оценок, вносят в понимание сути дела дополнительные и порой весьма важные оттенки.
Таким образом, заранее заготовленный пакет социологических инструментов оказывается в какой-то его части творчески преодоленным, вплоть до признания негодными некоторых его компонентов и отдельных вопросительных конструкций. Разумеется, инструментарий полевого исследования продолжает выполнять роль «дорожной карты», составленной по правилам логичности, выстроенности и структурированности. Но в сущности он представляет собой не более чем тематический ориентир, не что иное, как проложенный заранее маршрут движения.
Что касается самого полевого социолога, то он, постоянно помня о целевой исследовательской установке, имеет полное право, когда это становится необходимым, отойти от принятой исследовательской схемы. Больше того, если полагать полевого исследователя в качестве главного двигателя и основного социологического инструмента проекта, то в интересах дела он не только может, но и должен оперативно «запамятовать» (это редкий глагол, означающий совсем не «забыть», а только «подзабыть», намеренно «выпустить из памяти») многое из того, что в итоге дискуссий и обсуждений наконец превратилось в текст социологического инструмента. Тактика отступления от схемы необходима ради хотя бы временного растворения в изучаемом локальном социуме, когда исследователь воспринимается не столько сторонним наблюдателем, сколько обычным, пусть даже избыточно внимательным и слишком дотошным собеседником.
Подводя итог вышесказанному, целесообразно кратко изложить несколько советов, которые могут пригодиться полевому сельскому социологу, входящему в сельское сообщество, чтобы попытаться понять смысловые основы существования и, что особенно важно, перспективы изменений неформальных экономических акций сельских домохозяйств. Основной совет – ни при каких обстоятельствах не делать, что называется, «умного лица». Проще говоря, не позиционировать себя (ни в мизансценах знакомства, ни представления, ни собственного поведения в ходе исследовательских контактов – никогда!) в качестве всезнающего ученого, специалиста, «корифея наук». К несчастью, эти казусы иногда имеют место и, как принято говорить, безнадежно «портят поле».
Полевой социолог должен поставить себя как внимательного, полностью открытого для вольного, безыскусного общения собеседника, которого интересуют любые подробности существования сельского мира. Социолог обязан в первую очередь обеспечить такое коммуникативное настроение, в обстановке которого его расспросы, его продолжительные беседы были бы исключительно интересны собеседнику, чтобы у сельского жителя, работающего на земле, живущего на виду у всей деревни, не появлялось чувство, что его слова могут быть использованы в целях, не имеющих отношения к чисто познавательным, пусть даже сугубо научным, интересам интервьюера.
Сверхзадача всех этих усилий и поступков состоит в том, чтобы как можно более бережно и неощутительно, мягко и неназойливо «срежисс-сировать» искреннее, без всякого инстинктивного или намеренного умалчивания повествование, который можно обозначить терминологической связкой «голос снизу». Организовать этот голос и вжиться, втянуться в него именно как в нерасторжимую прочную целостность, а не как в реестр отдельных высказываний. Между прочим, подобного рода понимание содержательного потенциала «голосов снизу» весьма затрудняет практики цитирования крестьянских высказываний в статьях, монографиях, выступлениях на конференциях и семинарах. Здесь применим известный эпистемологический принцип – или все, или ничего. Отдельные фрагменты из нарративов, предназначенные для опубликования, обязательно потребуют либо развернутого комментария, либо привлечения широкого текстового контекста. Исключением оказываются народные пословицы и поговорки, которые также зачастую требуют хотя бы минимального комментирующего пересказа [5].
Что такое «голос снизу»? Вероятно, это не всякое повествование, даже исполненное доверительности и сердечности. Это лишь его сколок, фрагмент. В идеале же подлинный «голос снизу» – это безотчетно и имульсивно, то есть не вследствие вопрошающих инициатив социолога, а вполне независимо и самобытно конструируемая сельским респондентом совокупность, континуум воспоминаний, соображений, позиций, приятий и неприятий, признаний, жалоб, сетований и упований, существующих в сознании и памяти не вразброс, а в состоянии взаимоопоры одного на другое и взаимопродуцирования одного другим. Именно совокупность, системное единство, а не собрание сумбурных словоизлияний, обусловленных временами текущим психологическим настроем, ответом на определенную ситуацию, желанием приглянуться приезжему человеку или, напротив, его задеть или съехидствовать над ним.
Так выглядит, в первом приближении, система приоритетных способов получения более или менее надежной, релевантной социологической информации, нацеленных на подробное изучение жизненных практик сельских домохозяйств.
Список литературы Изучение жизненных практик сельских домохозяйств: опыт полевых социологических исследований
- Абрамов Ф. Чем живем-кормимся: очерки. Статьи. Воспоминания. Литературные портреты. Заметки. Размышления. Беседы. Интервью. Выступления / вступ. ст. Ф. Кузнецова. Л.: Советский писатель, 1986. 526 с.
- Артемов В.А. Эскиз социологической концепции социального времени // Социологические исследования. 2013. № 11. С. 3-9.
- Артемов В.А., Новохацкая О.В. Труд в сельской повседневности // Актуальные вопросы современной науки. 2016. № 4 (12). С. 45-48.
- Громыко М.М. Мир русской деревни. М.: Молодая гвардия, 1991. 445 с.
- Социально-демографическое развитие села: региональный анализ / Т.И. Заславская, И.М. Беленький, С.М. Бородкин [и др.] / под ред. Т.И. Заславской и И.Б. Мучника. М.: Статистика, 1980. 343 с.
- Методология и методика системного изучения советской деревни / Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние; отв. ред. Т.И. Заславская, Р.В. Рывкина. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1980. 344 с.
- Староверов В.И. Социальнодемографические проблемы деревни: методология, методика, опыт анализа миграции сельского населения / АН СССР, Ин-т социол. исслед. М.: Наука, 1975. 287 с.
- Шанин Т. Рефлексивное крестьяноведение и русское село // Рефлексивное крестьяноведение: десятилетие исследований сельской России / под ред. Т. Шанина, А. Никулина, В. Данилова. М.: МВШСЭН, РОССПЭН, 2002. С. 9-31.
- Широкалова Г.С. Горожане и селяне в результате реформ 1990-х годов // Социологические исследования. 2002. № 2. С. 71-82.
- Эмпирическая социология / сост. Л.А. Мироненко. Комсомольск-на-Амуре: КнАГТУ, 2013. 176 с.
- Фадеева О., Никулин А. Исследование и исследователи: замыслы, проекты, результаты, люди (1990-2001 гг.) // Рефлексивное крестьяноведение: десятилетие исследований сельской России / под ред. Т. Шанина, А. Никулина, В. Данилова. М.: МВШСЭН, РОССПЭН, 2002. С. 93-114.
- История сельской женщины: семья, хозяйство, бюджет / В. Виноградский, О. Виноградская, А. Никулин [и др.] // Рефлексивное крестьяноведение: десятилетие исследований сельской России / под ред. Т. Шанина, А. Никулина, В. Данилова. М.: МВШСЭН, РОССПЭН, 2002. С. 227-261.
- Виноградский В.Г. "Голоса снизу": дискурсивные проекции крестьянских миров // Социологический журнал. 2016. Т. 22. № 1. С. 133-153.