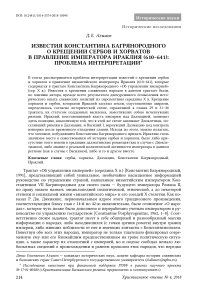Известия Константина Багрянородного о крещении сербов и хорватов в правление императора Ираклия (610-641): проблема интерпретации
Автор: Алимов Денис Евгеньевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4 (81), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема интерпретации известий о крещении сербов и хорватов в правление византийского императора Ираклия (610-641), которые содержатся в трактате Константина Багрянородного «Об управлении империей» (сер. Х в.). Известия о крещении славянских народов в данном трактате были, по мнению автора, прежде всего результатом дискурсивного осмысления исторического опыта славянских политий из перспективы середины Х в. Крещение хорватов и сербов, которыми Ираклий заселил земли, опустошенные аварами, определялось, согласно исторической схеме, отраженной в главах 29 и 31-36 трактата, их статусом подданных василевса, заместивших собою исчезнувших римлян. Ираклий, восстановивший власть империи над Далмацией, занимает здесь позицию, аналогичную той, что в этой же схеме занимают Диоклетиан, поселивший римлян в Далмации, и Василий I, вернувший Далмацию под контроль империи после временного отпадения славян. Исходя из этого, можно полагать, что мотивом, побудившим Константина Багрянородного придать Ираклию столь значимое место в повествовании об истории сербов и хорватов, было либо присутствие этого имени в традиции далматинских романцев (как в случае с Диоклетианом), либо знание о реальной политической активности императора в данном регионе (как в случае с Василием), либо и то и другое вместе
Сербы, хорваты, далмация, константин багрянородный, ираклий
Короткий адрес: https://sciup.org/140246604
IDR: 140246604 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10098
Текст научной статьи Известия Константина Багрянородного о крещении сербов и хорватов в правление императора Ираклия (610-641): проблема интерпретации
Трактат «Об управлении империей» (середина Х в.) [Константин Багрянородный, 1991], представляющий собой уникальное, необычайно насыщенное информацией руководство по управлению страной, написанное византийским императором Константином VII Багрянородным для своего сына — будущего императора Романа II, по праву можно назвать энциклопедией политической, этнической, а до некоторой степени и социальной жизни «византийского мира» и его соседей Х столетия. Как показал Р. Дж. Дженкинc, первоначальным ядром этого грандиозного произведения, соответствующим блоку глав с 14-й по 42-ю включительно, было сочинение «О народах», которое чуть позже было дополнено и переработано ученым императором в руководство по управлению государством [Constantine Porphyrogenitus, 1962, 1–8]. Соответственно своим задачам, трактат несет в себе обширный и разнообразный массив информации о народах, либо находившихся (с точки зрения ромеев) внутри границ империи, либо живших поблизости от нее и имевших контакты с Константинополем. Повествуя обо всех этих народах, император не только тщательно фиксировал современную ему или его ближайшим предшественникам на троне политическую ситуацию, а также характер их отношений с империей, но и подчас сообщал немало любопытных сведений о происхождении и раннем прошлом этих народов, что нередко
побуждало венценосного историка давать более или менее подробные отсылки к тем областям «варварского» мира, которые лежали далеко за пределами сферы влияния Константинополя.
Главы трактата 29–36 получили в историографии условное название балканского (или далматинского) досье. В нем рассматриваются народы региона, расположенного в западной части Балканского полуострова и приблизительно соответствующего территории бывшей римской провинции Далмации. К этому региону относились византийская фема Далмация с центром в Задаре, узкой полосой протянувшаяся вдоль восточного побережья Адриатики1, а также расположенные в его хинтерланде и охватывавшие гораздо более обширную территорию славянские княжества — Хорватия, Сербия, Пагания, Захумье, Травуния, Конавле и Дукля. Сведения, сообщаемые императором Константином об этих княжествах, давно стали основой для реконструкции ранней истории южных славян, в первую очередь сербов и хорватов. На информации трактата долгое время основывались историографические представления об обстоятельствах появления этих народов на Балканах, христианизации, истории их взаимоотношений с соседними странами и т. п. Начиная с XIX в. эти представления становились элементами складывавшихся хорватского и сербского национальных исторических нарративов, превратившись затем благодаря популярной исторической литературе и учебникам в достояние широкой публики.
Можно утверждать, что канонические варианты реконструкции ранней сербской и хорватской истории, основанные на сведениях трактата «Об управлении империей», сформировалась главным образом в рамках позитивистской историографии второй половины XIX — первой половины XX в. И хотя в последующие десятилетия было сделано очень многое для уточнения тех или иных сведений, верификации гипотез и концепций, общее отношение к тексту как к более или менее адекватному отражению реальной истории сербов и хорватов древнейшего периода не претерпевало существенных изменений. Правда, разброс мнений исследователей по отдельным вопросам мог быть весьма велик: например, одни историки могли полностью доверять рассказу императора о приходе хорватов и сербов на Балканы в правление Ираклия (610–641), в то время как другие — считать эту информацию тенденциозным искажением реальной истории в угоду византийским интересам в регионе2. Принципиально, однако, что и в том и в другом случае присутствовал по сути одинаковый взгляд на данный источник как на отражение прошлого.
В соответствии с этим задача историка долгое время виделась в том, чтобы максимально полно верифицировать информацию трактата с помощью других источников, с целью выяснить, где именно трактат сообщает о прошлом правду, а где — в силу тех или иных причин — нет. Однако то очевидное обстоятельство, что далеко не все из сообщаемого ученым императором может быть проверено, приводило к тому, что в интерпретации некоторых известий стали доминировать субъективные установки конкретных исследователей, привыкших доверять или не доверять информации определенного рода. Аргументация при этом, по сути, сводилась к рассуждениям на уровне здравого смысла: в то время как апологеты ученого императора подчеркивали, что трактат создавался для внутренних нужд управления, а потому, по их мнению, не мог содержать в себе заведомо ложной информации, скептики указывали на тенденциозность в изображении истории народов, являвшихся, с точки зрения ромеев, издревле подвластными Константинополю, а потому сомневались чуть ли не во всем, что касалось тех сюжетов трактата, где подчеркивалась центральная роль империи в ранней истории сербов и хорватов.
Только в последние 10–15 лет, под влиянием пришедших в историческую науку постмодернистских подходов, исследователи стали подвергать критике традиционный взгляд на трактат «Об управлении империей» как на своего рода историко-этнографический справочник, резервуар информации о прошлом «варварских» народов, которую можно использовать для реконструкции их древней истории. Результатом критики традиционных подходов стала постепенная выработка новой методологической позиции, в соответствии с которой предлагается осмыслять любые сведения трактата, в том числе те, которые относятся к ранней истории сербов и хорватов, во-первых, в тесной связи с целостным идейным замыслом трактата, подчиненным задачам репрезентации византийского имперского порядка [см.: Dzino, 2010a, 104–117], а во-вторых, в контексте отразившегося в трактате «социального знания» императорского двора [см.: Ančić, 2011, 230–252]3. Анализ «социального знания» при этом неотделим от анализа нашедших отражение в трактате социальных дискурсов, то есть свойственных данной эпохе и данной социокультурной среде конкретных способов осмысления и структурирования социальной реальности. При этом ввиду того, что источники, использованные императором, были весьма разнообразны и среди них, несомненно, присутствовали элементы так называемого локального знания (к примеру, этногенетические мифы «варварских» народов) [см.: Dzino, 2014, 89–104], рассмотрение нашедших отражение в трактате социальных дискурсов естественным образом выходит за рамки анализа мировоззрения самого императора или окружавших его людей, превращаясь по существу в рассмотрение тех способов мышления и описания рель-ности, которые были свойственны различным социокультурным средам, объединяя или, напротив, разделяя между собой людей той эпохи.
Отталкиваясь от этих методологических принципов, современные исследователи все чаще рассматривают содержащиеся в трактате «Об управлении империей» рассказы о ранней истории сербов и хорватов не столько как отражение их реальной истории, сколько как результаты конструирования истории этих народов в соответствии с лежавшими перед их автором задачами повествования [см.: Todorov, 2008, 64–72; Dzino, 2010b, 153–165]. Лично нам подобный подход представляется верным, хотя бы потому, что написание истории всегда связано с преодолением хаоса, отбором сюжетов, установлением связи между ними и т. п. Именно поэтому предлагаемый современными исследователями подход к анализу известий трактата позволяет глубже почувствовать ментальную дистанцию, отделяющую нас от людей, живших тысячу лет назад, и в силу этого лучше понять характерные для них способы структурирования социальной реальности, сопоставив их с теми, которыми мы пользуемся сегодня. Все сказанное является особенно актуальным при рассмотрении тех известий трактата, в которых сообщается о христианизации южных славян, однако до сих пор в историографии почти не было целенаправленных попыток взглянуть на эти известия под новым углом зрения. Настоящая статья призвана восполнить этот пробел.
В рамках далматинского досье содержится сразу несколько известий о христианизации южных славян, причем в двух из них — в главах 31 и 32, посвященных соответственно хорватам и сербам, — сообщается о крещении этих народов в правление императора Ираклия (610–641). В 31-й главе сообщение о крещении хорватов помещено сразу вслед за известием о том, как хорваты, победив господствовавших в Далмации аваров, некогда изгнавших отсюда римлян, завладели этой провинцией «по воле василевса»: «Когда упомянутые римляне были прогнаны аварами, в дни того же василевса Ираклия, их земли остались пустыми. Поэтому, по повелению василевса Ираклия, эти хорваты, пойдя войною против аваров и прогнав их оттуда, по воле василевса и поселились в сей стране аваров, в какой живут ныне. Хорваты имели в то время в качестве архонта отца некоего Порги. Василевс Ираклий, отправив [посольство], приведя священников из Рима и избрав из них архиепископа, епископа, пресвитеров и диаконов, крестил хорватов. Тогда у этих хорватов архонтом был уже Порга» [Константин Багрянородны й, 1991, 137]4.
Крещение сербов описывается в 32-й главе похожим образом. Соответствующее известие помещено сразу вслед за описанием переселения сербов на Балканы, в ходе которого землю для поселения им — так же как и хорватам — предоставил император Ираклий: «Поскольку нынешняя Сербия, Пагания, так называемая страна захлумов, Тервуния и страна каналитов были под властью василевса ромеев, а страны эти оказались безлюдными из-за аваров (они ведь изгнали оттуда римлян, живущих в теперешней Далмации и Диррахии), то василевс и поселил означенных сербов в этих странах. Они были подвластны василевсу ромеев, который, приведя пресвитеров из Рима, крестил их и, обучив их хорошо совершать дела благочестия, изложил им веру христианскую» [Константин Багрянородный, 1991, 141, 143]5.
В 29-й главе, посвященной Далмации и являющейся своего рода вступлением к «Повествованию о хорватах и сербах» (как именуются в самом трактате главы 31–36)6, говорится об отпадении славянских народов — хорватов, сербов, захумлян, травунян, конавлян, дуклян и неретвлян — от власти империи в правление ряда последующих императоров, особенно Михаила II Травла (820–829). Примечательно, что, сообщив об этом, император тут же добавляет: «Помимо этого, большинство этих славян не было крещено, и долгое время они оставались нехристями. При христолюбивом василевсе Василии они отправили апокрисиариев, прося и умоляя его о том, чтобы некрещеные из них были крещены и они были бы, как и поначалу, подвластными василевсу ромеев. Выслушав их, блаженный сей и приснопамятный василевс послал василика вместе с иереями и крестил их всех, кто оказался из упомянутых выше народов некрещеными» [Константин Багрянородный, 1991, 113, 115]7. В этой же главе далее содержится отдельное известие о крещении в правление Василия I (867–886) «паганов» (неретвлян), которые, по словам императора-историка, именовались «паганами» потому, что долгое время оставались некрещеными [Константин Багрянородный, 1991, 115]8.
Особняком стоит информация 30-й главы, которая, так же как и 31-я, посвящена истории хорватов, но, в отличие от нее и остальных глав, составляющих «Повествование о хорватах и сербах», была внесена в трактат позже — между 955 и 973 гг.9
В этой главе, основанной, как уже давно признано в историографии, на исторической традиции самих хорватов10, при описании как переселения, так и крещения хорватов никакой византийский император не фигурирует вовсе. Согласно 30-й главе, хорваты самостоятельно переселились в Далмацию, вступив в войну с господствовавшими здесь аварами. Победив аваров и заняв Далмацию, хорваты, по сообщению 30-й главы, некоторое время пребывали под франкским господством, от которого затем освободились в результате победоносной войны, когда их «архонтом» был некий Порин. Только после этого, став «самовластными и независимыми», хорваты отправили посольство в Рим и приняли оттуда крещение [Константин Багрянородный, 1991, 133].
Начиная с эпохального исследования Б. Графенауэра, посвященного разбору свидетельств трактата «Об управлении империей» о ранней истории сербов и хорватов [Grafenauer, 1952, 1–56], в историографии в целом возобладало скептическое отношение к информации об их крещении в правление Ираклия. Недоверие к этим известиям было обусловлено не только отсутствием сведений об этом крещении в других письменных источниках и нехваткой зримых подтверждений столь ранней христианизации в археологических материалах, но и утвердившимся в историографии восприятием рассказа об истории хорватов, содержащегося в 30-й главе, в качестве более достоверной версии событий, свободной от «провизантийской тенденциозности». Проявлением такого рода тенденциозности в версиях хорватской и сербской истории, содержащихся соответственно в 31-й и 32-й главах, исследователи считали то, что в них центральная роль не только в крещении, но и в самом поселении хорватов и сербов на Балканах приписывалась императору, хотя известно, что после аварского вторжения Константинополь не располагал возможностью диктовать свою волю славянам Далмации11.
От такого подхода к соотношению двух разных версий истории хорватов было недалеко до заключения, что Константин Багрянородный отнес к эпохе Ираклия события, произошедшие в действительности гораздо позднее. Так, в историографии даже появилась гипотеза, согласно которой хорваты переселились в Далмацию лишь в конце VIII в. [см.: Margetić, 1977, 5–88]. Такому выводу особенно способствовало ставшее популярным среди историков отождествление «архонта» Порги из 31-й главы с Порином из 30-й главы, имя которого уже давно предлагалось рассматривать как искаженный вариант имени князя Борны (ок. 818–821), хорошо известного по франкским источникам [см.: Grafenauer, 1952, 26–27; Margetić, 1977, 21–22]. Отнесение крещения хорватов ко времени правления Борны казалось тем более логичным, что, судя по археологическим данным, с рубежа VIII–IX вв. в Далмации существовало сильное франкское церковное влияние, которое обычно интерпретировалось в историографии как христианизация хорватов франкскими миссионерами. Естественно, что подобный подход к информации 31-й главы о переселении и крещении хорватов неминуемо предполагал аналогичную интерпретацию известий 32-й главы о переселении и крещении сербов.
Между тем результаты новейших исследований рассказа 30-й главы о ранней истории хорватов позволяют внести существенные коррективы в описанный выше подход к соотношению известий 30-й и 31-й глав. Прежде всего необходимо отметить, что в случае с изложением истории хорватов в 30-й главе мы имеем дело с этногенетическим мифом, подобным тем, что существовали у многих народов раннего Средневековья. Сравнительно-историческое изучение таких мифов позволило обнаружить во многих из них весьма схожие мотивы. Так, наряду с мотивами исхода с территории некой «прародины» и победы над могущественным врагом (каковым в хорватской традиции являлись авары и франки) в них мог присутствовать и мотив смены религии [Wolfram, 1995, 40–53]. Рассмотрение этих мотивов в историко-антропологическом контексте позволяет интерпретировать их как элементы, с помощью которых дис-курсивно и идеологически структурировался социально-политический опыт того или иного раннесредневекового «народа», то есть «гентильного» (этнополитического) организма, нуждавшегося в легитимации посредством апелляции к прошлому.
Соответственно, хорватская историческая традиция, отразившаяся в тексте 30-й главы, является характерным примером структурно организованного, легитимировавшего этнополитическую общность мифа, чья картина прошлого должна была соответствовать идеологии и «социальному знанию» хорватской гентильной элиты середины Х в. [подробнее см.: Алимов, 2016, 136–162]. Осмысление содержащегося в 30-й главе рассказа о переселении и крещении хорватов в рамках такой интерпретационной модели позволяет иначе взглянуть и на такую центральную для данного рассказа фигуру, как архонт Порин. Так, отнюдь не кажется фантастическим предложенное А. Милошевичем отождествление этого персонажа с богом Перуном, так как роль, отводимая Порину в хорватском мифе, находит аналогии в роли, которая в похожих германских легендах приписывалась богу Одину [см.: Milošević, 2013, 127–134; Алимов, 2016, 190–197].
Интерпретация версии раннего хорватского прошлого, изложенной в 30-й главе, как структурно организованного мифа с неизбежностью заставляет подобным же образом отнестись и к сведениям 31-й и 32-й глав, в которых рассказывается о переселении и крещении хорватов и сербов. Так, если в рамках прежней интерпретационной модели сходство элементов рассказов 30-й и 31-й глав (архонт Порга/Порин, крещение из Рима) объяснялось исходя из предполагаемого отражения в них реальных событий, то теперь это сходство может и должно рассматриваться как свидетельство присутствия в них единых принципов дискурсивного структурирования социального опыта, побуждавшего, в частности, представлять продолжительный процесс христианизации в качестве одномоментного «крещения». Рационально объяснить это единство можно только тем, что в основе рассказа 31-й главы о раннем прошлом хорватов также лежала хорватская традиция, которая, в отличие от версии, зафиксированной в 30-й главе, предстала здесь в своеобразной византийской обработке, с добавлением «организующей роли» византийского императора [см.: Dzino, 2010, 160]. Принятие этого важного положения в качестве отправной точки для дальнейшего анализа, позволяя снять вопрос о «крещении хорватов» (а по аналогии также и о «крещении сербов») как о реальном событии, побуждает задаться иным вопросом: почему в создаваемом ученым императором историческом нарративе это «событие» оказалось связанным именно с Ираклием? Для ответа на этот вопрос прежде всего необходимо определить, какую роль такая дискурсивно-нарративная конструкция, как «крещение народа», играла в создаваемом императором Константином историческом нарративе.
Из содержания «Повествования о хорватах и сербах» вытекает, что первым устроителем имперского порядка в Далмации был император Диоклетиан: Далмация стала владением ромеев с тех самых пор, как этот правитель поселил здесь римлян [Константин Багрянородный, 1991, 111, 149, 151, 153]. Впоследствии римская власть в Далмации пала вследствие вторжения аваров: узурпаторы-авары изгнали римлян из Далмации, вследствие чего она стала пустой и безлюдной страной [Константин Багрянородный, 1991, 137, 141, 149, 153]. Восстановление римского господства и повторное заселение Далмации Константин Багрянородный напрямую связывает с именем Ираклия, который освобождает Далмацию от узурпаторов-аваров руками хорватов [Константин Багрянородный, 1991, 137], а на остальных землях, оставшихся пустыми из-за аваров, поселяет сербов [Константин Багрянородный, 1991, 141]. Как видно, хорваты и сербы, с водворением которых в Далмации был восстановлен прежний порядок, наделяются в «Повествовании о хорватах и сербах» функцией, аналогичной функции римлян, приведенных в Далмацию из Рима Диоклетианом, ведь, как и римляне, хорваты и сербы предстают в трактате верными подданными василевса ромеев. В этой связи крещение хорватов и сербов, последовавшее сразу после поселения в Далмации этих народов, трудно трактовать иначе как превращение «варваров»
в субститут исчезнувших римлян: крещение хорватов и сербов было, таким образом, неотделимо от их статуса подданных империи.
Правда, согласно исторической схеме императора Константина, вторжение аваров стало не единственным испытанием для власти ромеев в Далмации. Новой проблемой стало описываемое в 29-й главе отпадение славян от империи при Михаиле II, после которого имперский порядок пришлось восстанавливать уже деду Константина Багрянородного — Василию I. Обращает на себя внимание использованная при описании этих событий формулировка «большинство этих славян (oƒ ple…onej tîn toioÚtwn Skl£bwn) не было крещено». В свете информации 32-й главы, где сообщается о том, как Ираклий крестил «всех сербов»12, наличие подобной формулировки в 29-й главе может создать у современного читателя впечатление, что Константин Багрянородный, описывая ситуацию с христианизацией, руководствовался степенью распространения христианства в «народных массах», что, конечно, не соответствует этническому дискурсу эпохи [Ančić, 2011, 242–244; Živković, 2013, 36]. Однако вопрос снимается при обращении к другому произведению, вышедшему из-под пера императора Константина — «Жизнеописанию Василия», где также содержится описание восстания славян против власти ромеев. О восставших славянах здесь говорится следующее: «А большая их часть впала в отступничество еще большее и отреклась от Божественного Крещения, так что уж не было у них больше залогов дружбы и служения ромеям» [Продолжатель Феофана, 1992, 185–186]. Думается поэтому, что двусмысленное выражение «большинство этих славян» можно интерпретировать как результат трудностей, с которыми столкнулся венценосный историк в своем стремлении «разделить» крещение славян между двумя императорами — Ираклием и Василием. Для нас в данном случае важно то, что в рамках такой нарративной стратегии славяне, потеряв статус подданных василевса, почти автоматически прекратили быть христианами.
Таким образом, в рамках созданного ученым императором исторического нарратива — повествования об истории сербов и хорватов — крещение тех или иных народов являлось необходимым атрибутом признания за ними статуса подданных Константинополя. Из этого следует, что если мы хотим ответить на вопрос, почему в трактате императора Константина крещение сербов и хорватов приписывается именно Ираклию, то мы не можем отделять сюжет с крещением от ясно обозначенной в данном нарративе роли Ираклия как восстановителя имперского порядка в Далмации. Учитывая, что Ираклий играет в исторической схеме императора Константина роль, аналогичную роли Диоклетиана и Василия I, то для ответа на вопрос о причинах, побудивших ученого императора связать с Ираклием важнейшую веху в истории Далмации, может быть полезным знание мотивов, которыми руководствовался венценосный историк, наделяя подобной ролью двух других императоров.
К счастью, в случае с Диоклетианом и Василием мотивы эти вырисовываются достаточно отчетливо. Так, имя Диоклетиана было элементом «локального знания» романских жителей фемы Далмации: память об императоре сохранялась благодаря построенному им огромному дворцу, в стенах которого разместился средневековый город Сплит [Dzino, 2010a, 111–115]. В Сплите, как предполается, хранился и некий письменный источник, повествовавший о Диоклетиане и, возможно, использованный при составлении трактата «Об управлении империей» [Basić, 2012, 175–196]. Иной, не связанной с «локальным знанием», по-видимому, была ситуация с Василием I: из «Тактики» Льва VI Мудрого (886–912) императору Константину было известно об установлении Василием прочного контроля над славянами, сопровождавшегося обращением их в христианство. Примечательно, однако, что славянами, которых привел к покорности дед императора Константина, были не сербы и не хорваты, а славянские жители Греции [Коматина, 2014, 283–285]. Контроль же империи над славянскими княжествами в хинтерланде Далмации был эпизодическим и ограничивался разовыми, не имевшими серьезных последствий акциями (экспедиция 870 г., приход к власти в Хорватии Здеслава в 878 г.). Таким образом, в трактате императора Константина разрозненные свидетельства об активности Василия в разных областях Балкан были сведены в не соответствовавшую исторической реальности картину, в которой Василий представал в качестве распорядителя политических судеб и крестителя всех славянских народов, ранее отпавших от империи [Коматина, 2014, 261–285; ср.: Živković, 2012, 116; Živković, 2013, 33–53].
Исходя из этого, можно думать, что Ираклий мог приобрести аналогичную роль на страницах трактата как в результате возможного присутствия этого имени в памяти романских жителей Далмации, так и вследствие наличия у Константина Багрянородного информации о политической деятельности Ираклия в регионе. Обращение к имеющемуся в нашем распоряжении материалу источников позволяет поддержать обе версии. Так, сопоставив информацию венецианских хроник XI–XII вв., в которых именно Ираклию приписывается роль организатора политической и религиозной жизни на островах венецианской лагуны, с известиями об Ираклии в трактате императора Константина, Н. Будак высказал убедительную гипотезу о существовании общей для венетиков и далматинских романцев исторической традиции об Ираклии, в которой отразилась память об усилиях этого императора по поддержанию византийского присутствия на северных окраинах Равеннского экзархата в период натиска на империю лангобардов и аваров [Budak, 1994, 64–65]. Едва ли можно пройти и мимо того факта, что в правление Ираклия союзником империи стал оногурский вождь Куврат, изгнавший, по сообщению «Бревиария» патриарха Никифора, из своих владений аваров [Чичуров, 1980, 161]. Если учесть, что политии хорватов и сербов также складывались на окраинах Аварского каганата, то вовлеченность имперской дипломатии в установление контактов с местными элитами кажется вполне вероятной, а сходство имен Куврата, именуемого Кроватом в «Хронографии» Феофана Исповедника [Чичуров, 1980, 61], и этнонима «хорват/хроват» (первоначально, возможно, имевшего социальное значение) может указывать на взаимосвязь процессов, протекавших на окраинах каганата в 630-е гг., когда в его ядре, расположенном в Карпатской котловине, происходил внутренний конфликт [подробнее см.: Алимов, 2016, 162–182]13.
Итак, несмотря на то, что мы не можем считать описываемое императором Константином «крещение» хорватов и сербов реальным историческим событием, все указывает на то, что в самом придании Ираклию роли крестителя этих народов наличествовала определенная логика. Обращение к этой логике в очередной раз убеждает в некорректности популярных ранее в историографии оценок южнославянских сюжетов трактата «Об управлении империей» либо как честной фиксации реальных событий, происходивших на окраинах империи, либо как результатов тенденциозного искажения реальной истории «варваров» в угоду интересам Константинополя. В рассмотренных сообщениях далматинского досье император Константин выступает прежде всего как добросовестный историк, стремившийся описать христианизацию сербов и хорватов в дискурсивных категориях своего времени, с использованием доступных ему скудных и разнородных данных, то есть стремившийся действовать так, как действует любой историк, столкнувшийся с задачей создания связного и понятного своим современникам повествования о далеком и малознакомом прошлом.
Список литературы Известия Константина Багрянородного о крещении сербов и хорватов в правление императора Ираклия (610-641): проблема интерпретации
- Алимов Д. Е. Этногенез хорватов: Формирование хорватской этнополитической общности в VII-IX вв. СПб., 2016.
- Коматина П. Црквена политика Византиjе од краjа иконоборствадо смрти цара Василиjа I. Београд, 2014.
- Константин Багрянородный. Об управлении империей / Под ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Новосельцева; пер. Г. Г. Литаврина. 2-е изд. М.,1991.
- Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / Пер., статья, комм. Я. Н. Любарского. СПб., 1992.
- Ферjанчић Б. Долазак Хрвата и Срба на Балканско полуострво (Осврт на нова тумачења) // Зборник радова Византолошког интитута. 1996. Књ. 35.С. 117-150.
- Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. М., 1980.
- Эксле О. Г. Действительность и знание: очерки социальной истории Средневековья / Пер. с нем. и предисл. Ю. Арнаутовой. М., 2007.
- Ančić M. Zamišljanje tradicije: Vrijeme i okolnosti postanka 30. glave djelaDe administrando imperio // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. 2010. Knj. 42. S. 133-152.
- Ančić M. Ranosrednjovjekovni Neretvani ili Humljani: Tragom zabune kojuje prouzročilo djelo De administrando imperio // Hum i Hercegovina kroz povijest. Zbornikradova. Knj. I / Ur. I. Lučić. Zagreb, 2011. S. 217-278.
- Antunović Z., Gračanin H. Bizantski car Heraklije I. uhrvatskoj historiografiji // Povijesni prilozi. 2012. Sv. 43. S. 9-30.
- Basić I. Neka pitanja tekstualne transmisije izvora Porfirogenetovih poglavljao Dalmaciji // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. 2012. Knj. 44. S. 175-196.
- Budak N. Prva stoljeća Hrvatske. Zagreb, 1994.
- Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio. Vol. II: Commentary / Ed. by R. J. H. Jenkins. London, 1962.
- Curta F. Emperor Heraclius and the conversion of the Croatsand Serbs // Medieval Christianitas. Different Regions, «Faces», Approaches / Ed. by Ts. Stepanovand G. Kazakov. Sofia, 2010. P. 121-138.
- Dzino D. Becoming Slav, becoming Croat: identity transformations in post-Roman and early medieval Dalmatia. Leiden; Boston, 2010.
- Dzino D. Pričam ti priču: ideološko-narativni diskursi o dolasku Hrvata uDe administrando imperio // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. 2010. Knj. 42. S. 153-165.
- Dzino D. Local knowledge and wider contexts: stories of the arrival of the Croats in De Administrando Imperio in the past and present // Byzantium, its neighboursand its cultures / Ed. by D. Dzino and K. Parry. Sydney, 2014. P. 89-104.
- Grafenauer B. Prilog kritici izvještaja Konstantina Porfirogeneta odoseljenju Hrvata // Historijski zbornik. 1952. God. V. Br. 1-2. S. 1-56.
- Lončar M. Porfirogenetova seoba Hrvata pred sudom novijeliterature // Diadora. 1992. Sv. 14. S. 375-448.
- Margetić L. Konstantin Porfirogenet i vrijeme dolaska Hrvata // ZbornikHistorijskog zavoda JAZU. Zagreb, 1977. Vol. 8. S. 5-88.
- Milošević A. Tko je Porin iz30. glave De administrandoimperio? // Starohrvatska prosvjeta. Ser. III. 2013. Sv. 40. S. 127-134.
- Todorov B. Byzantine myths of origins and their functions // StudiaSlavica et Balcanica Petropolitana. 2008. № 2(4). С. 64-72.
- Wolfram H. Razmatranja o Origo gentis // Etnogeneza Hrvata / Ur.N. Budak. Zagreb, 1995. S. 40-53.
- Živković T. De Conversione Croatorum et Serborum: a Lost Source.Belgrade, 2012.
- Živković T. On the baptism of the Serbs and Croats in the time of Basil I(867-886) // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2013. № 1(13). С. 33-53.