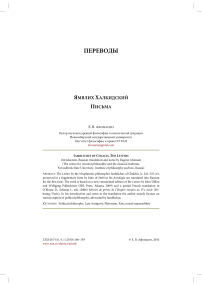Ямвлих Халкидский. Письма: предисловие, перевод, комментарии, приложения, указатели
Автор: Афонасин Евгений Васильевич
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Аналитическая философия права
Статья в выпуске: 1 т.4, 2010 года.
Бесплатный доступ
Письма философа-неоплатоника Ямвлиха Халкидского (242-325 гг. н. э.), фрагменты которых дошли до нас в составе Антологии Иоанна Стобея, на русский язык переводятся впервые. Перевод и комментарий основаны на новом издании Писем: John Dillon, Wolfgang Polleichtner, eds. Iamblichus of Chalcis, The Letters (SBL Press, Atlanta, 2009), а также частичном их переводе на французский язык в следующей хрестоматии: Dominic O'Meara, Jacques Schamp, eds. Miroirs de prince de l'Empire romain au IVe siècle (Fribourg / Paris, 2006). Перевод сопровождается вступительной статьей, в которой особое внимание уделяется политической философии Ямвлиха, и подробным комментарием.
Политическая философия, поздняя античность, платонизм, судьба и провидение, моральная ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/147103293
IDR: 147103293
Текст научной статьи Ямвлих Халкидский. Письма: предисловие, перевод, комментарии, приложения, указатели
Политический идеал
В ПОЗДНЕАНТИЧНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ЭПИСТОЛОГРАФИИ
К переводу фрагментов П ИСЕМ Ямвлиха
К омментированный перевод Писем Ямвлиха, впервые представленный Джоном Диллоном на афинском коллоквиуме в марте 2009 г.,1 показывает всем, интересующимся историей античной философской и политической мысли, еще одну грань творчества сирийского философа (ок. 242 – ок. 325 гг. н. э.).2 За исключением двух свидетельств в произведениях неоплатоников V века, все дословные цитаты из Писем основателя школы неоплатонизма в Апамее сохранились в составе Антологии Иоанна Стобея (вероятно, конец V – начало VI в.). И хотя у нас нет никаких оснований сомневаться в аутентичности этих выдержек, независимые свидетельства, безусловно, важны.3 Кроме того, они показывают, что в письмах Ямвлих, должно быть, затрагивал более широкий круг вопросов, выходящих за пределы тех этических и политических сюжетов, которые в первую очередь интересовали составителя Антологии .
Философская эпистолография в позднеантичный период прочно утвердилась в качестве особого литературного жанра, хотя, насколько нам известно, ни один из неоплатоников, кроме Ямвлиха, не проявил к ней интереса.4 Мы не знаем, с какой целью были написаны эти письма и кто их собрал в единый корпус, однако предположение о том, что сам Ямвлих мог рассматривать их в качестве общедоступного и удобного введения в философию, ориентированного на широкую аудиторию, выглядит естественным.
Серия писем о провидении и судьбе (Письма 8, 11 и 12) в определенном смысле задает тон всему собранию. Усматривая проявления божественного провидения во всех действиях судьбы от слепого рока до персонифицированного случая (Тихи), Ямвлих стремится убедить читателя в том, что все причинно-следственные связи в мире восходят к одному источнику – своего рода «центру управления причинами», ответственному за универсальный космический порядок.
Именно к знанию высшей причины (ἡ αἰτία) должен в конечном итоге привести, по мнению Ямвлиха, процесс воспитания (Письмо 14). Пройдя начальные стадии образования, ученик от неосознанного повторения переходит к разумному освоению всего того, что ему преподносилось в качестве истин на начальных этапах воспитания, тем самым самостоятельно развивая те добрые задатки, которые были заложены в него посредством различных поощрений и запретов, а также, прежде всего, личным примером наставника.
Основной способ передачи знания о первой причине – это, разумеется, диалектика, рассматриваемая в двух письмах, адресованных ученикам Ямвли-ха, Дексиппу (Письмо 5) и Сопатру (Письмо 13), которые, как и их учитель, были профессиональными философами. Единственный сохранившийся фрагмент Письма 5 представляет собой доксографический образец, видимо, призванный проиллюстрировать божественную природу диалектики, в то время как в первом фрагменте Письма 13, после традиционного определения диалектики как «дара богов» (τὸ τῶν θεῶν δῶρον), наверняка навеянного Филебом 16c (θεῶν εἰς ἀνθρώπους δόσις), рассматриваются четыре уровня диалектической аргументации: (1) обычная беседа, основанная на здравом смысле (κοιναὶ ἐννοίαι) и позволяющая сформулировать простые мнения (δόξαι); (2) научное исследование, призванное обнаружить исходные начала различных наук и искусств (τέχνη); (3) практический расчет (λογιζόμενον), позволяющий просчитать последствия своих действий; и (4) предварительные занятия (προγυμνασία), ведущие к философскому рассуждению. При этом оказывается, что так понятая диалектика является необходимым инструментом любого по- знания: открыв какую-либо теорию, мы затем обосновываем ее рациональными средствами, и, даже отвергая диалектику, пользуемся диалектическими методами. Однако самым главным результатом диалектического рассуждения является начинающийся от нее путь к самопознанию, проходящий (во втором фрагменте письма) через этапы «анамнесиса» (Менон 82b сл.) и «маевтики» (Теэтет 150d; 210c) и ведущий к постижению природы добродетели – главной цели и смыслу философского размышления.
О природе добродетели в целом Ямвлих говорит в Письме 16 (Сопатру), серию других писем посвящая отдельным добродетелям, таким как благоразумие (Письмо 3), рассудительность (Письмо 4), согласие (Письмо 9), мужественность (Письмо 10), достоинство (Письмо 17) и, напротив, неблагодарность (Письмо 15). Мы узнаем, что добродетель открывается лишь уму, очищенному от всего материального, причем о ней говорится как об умопостигаемой форме (νοητὸν εἶδος) и в терминах, адекватных лишь для описания истинного бытия платоновского Филеба (фр. 2–3).5 И хотя в тексте писем Ямвлих ни словом не обмолвился о сложной неоплатонической иерархии добродетелей, ясно, что так понятая добродетель находится скорее на уровне «очистительном» или даже «парадигматическом», нежели на уровне обычных гражданских добродетелей.6 Не удивительно поэтому, что она достигается лишь через посильное уподобление божеству и совершенствование человеческой природы (фр. 4). Кроме того, «к предельному основанию всех добродетелей и соединению всех их», как сказано в Письме 2 (фр. 1), «подойдет ведóмый правосудием», в то время как такая «многовидная» добродетель, как благоразумие (Письмо 3), реализуется в правильном распределении уделов между правителями и подданными. Ну а рассудительность (Письмо 4) «уподобляет божеству того, кто ею обладает», и возводит «города, дома и жизнь отдельного человека к божественному образцу», тем самым оказываясь «направляющим началом, правящим всей структурой их взаимоотношений» (вспомним, что в таких же терминах Ямвлих описывает действие промысла). С таким теоретическим багажом мы подходим к науке управления обществом, которой посвящена значительная часть собрания.
Возможность установления хорошего правления обусловлена сочетанием ряда внешних и внутренних условий, таких как благоприятные природные факторы (φύσει) и хорошие социальные установления (νόμῳ), с одной стороны, а также удачливость («Тиха») правителя и его внутренние качества, с другой. В Письме 9, адресованном Македонию, который, предположительно, был высокопоставленным имперским должностным лицом в Сирии, Ямвлих утверждает, что необходимым условием любого успешного правления является согласие, или «единомыслие» (ὁμόνοια). Терминология, разумеется, восходит к консервативной политической философии, что для подвластной Риму Сирии выглядит вполне уместным,7 однако Ямвлиха волнует совсем другое: хорошему правителю (и вообще человеку) важно достичь согласия с самим собой (приобрести, как он выразился, ὁμογνωμοσύνη): «Управляемый единым умом и единой волей (γνώμη) человек находится в согласии с самим собой, с двоящейся же волей (διχογνωμονῶν) и неуверенный в расчете человек раздираем конфликтами».
Подданные, как мы узнаем из Письма 1 (Агриппе), больше всего любят, когда «порядочность и человеколюбие» сочетаются в правлении «с величавостью и властной суровостью». И напротив, избыток власти и ее несоразмерность им ненавистны. Оставаясь авторитарной, власть должна учитывать общие интересы – эту мысль Ямвлих иллюстрирует на примере отношений в семье, подчеркивая, что отношениям между мужем и женой следует отличаться от рабского типа властных отношений, сохраняя при этом свой потестарный характер (Письмо 19, возможно также Сопатру).
«Цель хорошего правителя, – читаем мы в Письме 6, – состоит в том, чтобы осчастливить подданных». Для этого вновь требуется общественное согласие, когда общественная польза гармонирует с личной выгодой, но кроме того – активные позитивные действия со стороны правителя. Причем «венцом всякого управления» (фр. 2) являются благодеяния (εὐεργεσία) правителя, предлагаемые добровольно и щедро, а не в обмен лишь на оказанные ему услуги, очевидно, такие как поддержка крупных градостроительных проектов и т. д. Другой стороной такого социального контракта оказывается, разумеется, благодарность подданных, поэтому в специальном письме на эту тему Ямвлих осуждает неблагодарность (ἀχαριστία) как величайшее из социальных зол (Письмо 15).8 Неоднократно подчеркивая важность социального контракта, Ямвлих утверждает, что, в обмен на поддержку со стороны граждан, хорошее государство должно, как минимум, обеспечивать развитие экономики, безопасность перед лицом внешних и внутренних угроз и способствовать развитию культуры:
«Наиболее успешно… правит тот, кто предоставляет множество благ и обильные средства (χορηγίαν) для существования, а также обеспечивает наибольшую безопасность (σωτηρίαν) и спокойствие (ῥᾳστώνην) в [общественной] жизни» (Письмо 6, фр. 1).
Довольно адекватное описание функций государства, верное во все времена! Природное и социальное сливаются в понятии закона (включающего в себя как божественный промысел, так и позитивное право). В качестве «царя всему» закон полагает пределы роста для всякой власти, мешает ей стать абсолютной и обеспечивает ту «слаженность», о которой говорится в Письме 1 и которая в немалой степени обеспечивается личными качествами правителя:
«Правитель, ответственный за соблюдение законности, должен обладать совершенно ясным видением абсолютной правильности законов, не оступаться по незнанию, из-за уловки или обмана, не поддаваться насилию и не обманывать себя неправедными оправданиями. Ведь спаситель и защитник закона должен быть непорочным (ἀδιάφθορον) настолько, насколько это в человеческих силах» (Письмо 1, фр. 2).
В фрагменте письма неизвестному получателю (Письмо 20, которое может быть продолжением того же Письма 1) вновь подчеркивается моральная ответственность монарха и необходимость для него стать примером для всех остальных. Только так, с согласия и при благоволении подданных, сочетая все эти внешние и внутренние факторы, правитель исполнит свое предназначение.
Фрагменты П ИСЕМ Ямвлиха Халкидского В СОСТАВЕ Антологии И ОАННА С ТОБЕЯ
Подготовлено Е. В. Афонасиным по изданию: John Dillon, Wolfgang Polleichtner, eds. (2009) Iamblichus of Chalcis: The Letters (SBL Press, Atlanta) 1
Письмо 1: Агриппе, О власти 2
Фр. 1. Stobaeus, Anth. IV v. 76, IV 223, 7–12 Hense
Избыток власти (ἀρχῆς) кажется оскорбительным большинству, и несоразмерность ее им ненавистна; однако когда порядочность и человеколюбие сочетаются в ней с величавостью и властной суровостью, то власть становится слаженной (ἐμμελὲς) и сдержанной, приятной и легко доступной. Именно такой вид правления больше всего любят подданные.
Фр. 2. Ibid. v. 77, IV 223, 14–224, 7 H.
Говорят, что «царь всему» 3 – закон. Ведь именно он, как считается, предписывает доброе и запрещает ему противоположное.4 Насколько же соотнесенная с ним законность (εὐνομίαν) прекраснее других вещей и до какой степени 5 превосходит их все? Ведь в зависимости от того, сколько у нас имеется добродетелей и каких они родов и видов, столько же разнообразных благ установлено правовыми предписаниями, и польза от них всецело распространяется как на городское управление, так и на образ жизни частных лиц. Так что закон есть всеобщее благо (κοινὸν ἀγαθὸν ὁ νόμος),6 и без него ни одно благо не может возникнуть. Поэтому правитель, ответственный за соблюдение законности, должен обладать совершенно ясным видением абсолютной правильности законов, не оступаться по незнанию, из-за уловки или обмана, не поддаваться насилию и не обманывать себя неправедными оправданиями. Ведь спаситель и защитник закона должен быть непорочным (ἀδιάφθορον) настолько, насколько это в человеческих силах.7
Письмо 2: Анатолию,8 О правосудии
Фр. 1. Stob. Anth. III ix 35, III 358, 5–8 H.
К предельному основанию (τέλος) всех добродетелей и соединению (συναγωγὴ) всех их, – к тому, в чем все они, как говорят древние,9 собраны воедино, подойдет ведомый правосудием (δικαιοσύνη).
Фр. 2. Ibid. 36, III 358, 10–17 H.
В жизни человека разделение обязательных действий, почестей и всего того, что возлагается на каждого в отдельности, создает присущую человеческой жизни форму справедливости. Дела и обычаи, присущие справедливости, тогда будут направлены на развитие чувства коллективизма (κοινωνικά) и навыков социализации (ἥμερα), соблюдение договоров и соглашений (εὐσύμβολα καὶ εὐσυνάλλακτα) и достижение общественной пользы, что предполагает препятствование вредоносным действиям и создание полностью благоприятных условий для свершения им противоположного.
Письмо 3: Арете,10 О благоразумии
Фр. 1. Stob. Anth. III v. 9, III 257, 13 – 258, 4 H.
То же самое можно сказать и о душевных силах,11 чья упорядоченность (εὐκοσμία) определяется их взаимной согласованностью (συμμετρία),12 правильным распределением (εὐταξία) стремления (θυμός), желания (ἐπιθυμία) и расчета (λόγος) в подобающем им порядке.13 Потому распределение уделов между правителями и подданными и следует назвать благоразумием (σωφροσύνη), этой многовидной добродетелью.14
Фр. 2. Ibid. 45, III 270, 12–16 H.
Всякая добродетель сторонится смертной природы и радушно встречает бессмертную; однако благоразумие заботится об этом особенным способом, не почитая те наслаждения, которые «пригвождают» душу к телу ( Федон 83d), «воздвигнувшись на священном престоле» ( Федр 254b), как говорит Платон.15
Фр. 3. Ibid. 46, III 270, 18 – 271, 6 H.
Как же благоразумие не сделает нас совершенными, если оно очищает нас от всего несовершенного и подверженного страстям?16 Ты поймешь, что это так, если вспомнишь Беллерофонта, который, призвав на помощь упорядоченность, уничтожил Химеру вкупе со всем животным, диким и свирепым вой-ском.17 Вообще говоря, неумеренная власть страстей не позволяет людям оставаться людьми, перетягивая их на сторону неразумной, животной и неупорядоченной природы.
Фр. 4. Ibid. 47, III 271, 8–15 H.
Добрый порядок, содержащий наслаждения в измеримых границах, «спасает дом и спасает город», согласно изречению Кратета.18 Кроме того, он некоторым образом приближает нас к божественной форме (εἶδος). Так, Персей, поднявшийся на самую вершину благоразумия, ведомый Афиной, обезглавил Горгону, которую я считаю силой, низвергающей (καθέλκουσαν) людей в материю 19 и превращающей их в камни (ἀπολιθοῦσαν) 20 через безумное потакание страстям.

Беллерофонт, Пегас и Химера. Греческий терракотовый рельеф, Мелос, ок. 450 г. до н. э., Лондон, Британский музей
Фр. 5. Ibid. 48, III 271, 17–21 H.
Добродетель, как имел обыкновение говорить Сократ, зиждется на контроле над сладострастием (γλυκυθυμία),21 а благоразумие можно считать украшением всяких благ, как считал Платон.22 По-моему же, добродетель есть оплот (ἀσφάλεια) наилучших способностей (τῶν καλλίστων ἕξεων).
Фр. 6. Ibid. 49, III 271, 23 – 272, 3 H.
Не сомневаясь, подтверждаю то, с чем все согласятся: красота благоразумия пронизывает все добродетели и настраивает (συναρμόζει) все их на один лад (κατὰ μίαν ἁρμονίαν), обеспечивая их соразмерность (συμμετρίαν) и слитность (κρᾶσιν πρὸς ἀλλήλας). Будучи таковой, она оказывается причиной (ἀφορμὴ) их возникновения и, утвердившись [в душе], их надежным убежищем (σωτηρία).23
Фр. 7. Ibid. 50, III 272, 5–9 H.
Сочетание (σύστασις) времен года и взаимное смешение (σύγκρασις) начал создают прекрасное и благоразумное (σώφρονα) созвучие (συμφωνία). Потому этот мир и называется космосом, благодаря упорядоченности его прекраснейших очертаний (διὰ τὴν κοσμιότητα τῶν καλλίστων μέτρων).
Письмо 4: Асфалию, О рассудительности 24
Stob. Anth. III iii 26, III 201, 17 – 202, 17 H.
Именно рассудительность (φρόνησις) господствует над добродетелями и все их использует: умственным взором 25 тщательно упорядочивая их взаимное расположение и относительные размеры по наиболее подходящему канону, рассудок (λόγος) представляет их нашему взору в конкретных условиях. Значит, рассудительность первоначально возникает в чистом и совершенном уме. Появившись, она созерцает сам ум и совершенствуется благодаря ему, принимая его в качестве прекраснейшей меры и образца для всех внутренних изменений (τῶν ἐν αὐτῇ πασῶν ἐνεργειῶν). И если у нас есть что-либо общее с богами, то проявляется оно лучше всего в этой добродетели, и через нее мы особенно явно уподобляемся им.26 Именно через нее мы приобретаем способность отличать благое, полезное и красивое от им противоположного, и при ее посредстве принимается решение и осуществляется подходящее действие. Короче говоря, она для людей является направляющим (κυβερνητική) началом, правящим (ἀρχηγός) всей структурой их взаимоотношений; возводя города, дома и жизнь отдельного человека к божественному образцу, она изображает их наподобие самого лучшего, изглаживая здесь, дорисовывая (ἐναπομοργνυμένη)27 там и в обоих случаях добиваясь соразмерного сходства.28 Воистину, рассудительность уподобляет божеству того, кто ею обладает.
Письмо 5: Дексиппу 29, О диалектике
Stob. Anth. II ii. 5, II 18, 13 – 19, 11 Wachsmuth
Воистину некий бог открыл диалектику и ниспослал ее людям. Говорят, что Гермес, бог речи (ὁ λόγιος Ἑρμῆς), держит в руках ее знак (σύνθημα) – двух взирающих друг на друга змей.30 Однако, как утверждают наиболее уважаемые и избранные (δεδοκιμασμένοι καὶ πρόκριτοι)31 из сведущих в философии, старейшая из муз, Каллиопа, придала слову неуклонную и неопровержимую твердость, украшенную «многосладостной кротостью (αἰδοῖ μειλιχίῃ)».32 На деле же, бог в Дельфах, «не говорит, – по словам Гераклита,33 – не скрывает, но знаменует» в своих пророчествах, побуждая слушателей оракулов к диалектическому исследованию, которое, выявляя неоднозначность и омонимию, и выискивая всякую двусмысленность, зажигает в них свет знания. Это хорошо понимал Фемистокл, который, подобающим образом разрешив загадку «деревянной стены», стал безусловной причиной спасения всех эллинов.34 Сродни ей и диалектические труды (διαλεκτικῆς ἔργα) бога Бранхидов, который в следующих словах ясно указывает на индукцию: «Ни быстрая стрела, ни лира, ни корабль, ни что иное не принесет пользы, если не будет использоваться со знанием дела (ἐπιστημονικῆς χρήσιος)».35
Письмо 6: Дисколию, О власти (?) 36
Фр. 1. Stob. Anth. IV v. 74, IV 222, 7–18 H.
Наиболее успешно, как истинный правитель, и даже лучше, правит тот, кто предоставляет множество благ и обильные средства (χορηγίαν) для существования, а также обеспечивает наибольшую безопасность (σωτηρίαν) и спокойствие (ῥᾳστώνην) в [общественной] жизни. Ведь в конечном итоге цель хорошего правителя состоит в том, чтобы осчастливить подданных; и именно этим отличается обладающий властью господин от тех, кто ему подчинен, ведь, вверив себя ему, подданные получают возможность вести блаженную жизнь.37 Однако общественная польза не может быть отделена от личной. Напротив, личная выгода содержится в общей, а частное сохраняется в целом и в живых существах, и в государствах и в других природных вещах.
Фр. 2 . Ibid. 75, IV 222, 20 – 223, 5 H.
Меня восхищает великодушие и щедрость 38 во всех государственных делах, в особенности в том, что касается действий во благо людям, когда правители не мелочатся 39 и не жадничают при раздаче, не обменивают одно на другое, как бы взвешивая на весах,40 но благородно ниспосылают благодеяния, не проливая их лишь из сосуда, как сказал поэт,41 и не заключая их в какое-либо иное вместилище, но предлагая их нагими и неприкрытыми, безо всяких внешних покровов, следующими одно за другим, добросердечно и благосклонно, действительно изящно. Такой порядок благодеяний (τῶν χαρίτων… κόσμον) я бы по праву назвал венцом всякого управления.
Письмо 7: Евстафию, О музыке 42
Stob. Anth. II xxxi. 117, II 229, 6–8 W.
… осознав это [поймем], что величайшие натуры порождают великое зло, когда они испорчены, а сильнейшие личности (ἐπιτηδεύματα)43 всего губительнее, когда они обращаются во зло.
Письмо 8: Македонию, О судьбе 44
Фр. 1. Stob . Anth. I v. 17, I 80, 11 – 81, 6 W.
Все сущее существует благодаря единому,45 однако первое сущее от начала происходит от единого, и совершенно особенным образом [принципы] всеобщей причинности (τὰ ὅλα αἴτια) получают действенную способность (τὸ δύνασθαι ποιεῖν) от единого, и охвачены единой связью (συμπλοκὴν), и возводятся (συναναφέρεται) к началу множественности, как уже существующее
(προϋπάρχοντα) в нем. Соответственно, все многообразные природные причины, многовидные (πολυειδῶν), многомерные (πολυμερίστων) 46 и зависящие от многих начал, подвешены (ἐκκρέμαται) на одной общей для всех причине, связаны друг с другом одним узлом (σύνδεσιν), и эта связка (σύνδεσμος) многочисленных причин ведет к всеохватному центру управления причинами (τὸ περιεκτικώτατον τῆς αἰτίας κράτος). Эта единая цепь (εἱρμὸς) 47 не есть случайный набор (συμπεφορημένος) из множества, не является она и единством, появившимся лишь в результате этой связи, и не распадается на составные части; напротив, в согласии с изначально руководящей и организующей единой связью (κατὰ δὲ τὴν προηγουμένην καὶ προτεταγμένην… μίαν συμπλοκὴν) самих причин, она все завершает (ἐπιτελεῖ), все с собой связывает и возводит единообразно к себе. Так что судьба может быть определена как единый порядок, включающий в себя все остальные порядки.
Фр. 2. Stob. Anth. II viii. 43, II 173, 5–17 W.
По своей сути душа нематериальна, бестелесна, не причастна какому-либо возникновению и уничтожению, в себе содержит собственное бытие (τὸ εἶναι) и жизнь, и является полностью самодвижущимся началом природы и всякого движения. Будучи таковой, эта сущность заключает в себе самостоятельную (αὐτεξούσιον) и независимую (ἀπόλυτον) жизнь. Но, отдавши себя во власть становления и подчинившись вселенскому потоку (τὴν τοῦ παντὸς φορὰν), она приводится во власть судьбы и порабощается всем тем, что необходимо по природе (ταῖς τῆς φύσεως ἀνάγκαις). Однако в той мере, в какой она осуществляет умственную деятельность, совершаемую независимо от чего бы то ни было и в силу свободного выбора (αὐθαίρετον), в той же мере она добровольно занята своим делом (τὰ ἑαυτῆς ἑκουσίως πράττει) и прикасается к божественному, благому и разумному, согласному с истиной (νοητοῦ μετ’ ἀληθείας).
Фр. 3. Ibid. 44, II 173, 19–24 W.
Мы должны заботиться о том, чтобы вести жизнь разумную и приближающую к богам. Ведь лишь она допускает свободную власть души,48 освобождает нас от оков необходимости и делает нашу жизнь не просто человеческой, но божественной и наполненной даруемой богами божественной благостью.49
Фр. 4. Ibid. 45, II 173, 26 – 174, 27 W.
И вообще говоря, движения судьбы (πεπρωμένη) по миру подобны нематериальным и умным энергиям и вращениям (περιφορὰς), в то время как ее поря- док уподобляется умному и чистому (ἄχραντον) благорасположению. (εὐταξίαν). Вторичные причины зависят от причин, им предшествующим, множественность в творении – от неделимой сущности, а вся полнота вещей, подвластных судьбе, подчинена ими управляющему промыслу (πρόνοια). Значит, по своей сути судьба связана с промыслом, и бытие промысла есть судьба, так что она получает свое существование в нем и через него.
Если это так, то начало деятельности (πράττειν) в людях находится в согласии с двумя этими началами всего; однако верно и то, что начало действия в нас (ἡ ἐν ἡμῖν τῶν πράξεων ἀρχή) независимо от природы и свободно (ἀπόλυτος) от движения небес. По этой причине оно не содержится (ἔνεστι) в [начале] космоса (ἐν τῇ τοῦ παντός). Ведь поскольку оно не выводится как из природы, так и из движения небес, то считается старшим (πρεσβυτέρα) по отношению к космосу и независимым от него; но так как оно выделило для себя (κατενείματο) части (μερίδων) из всего космоса и меры (μοίρας) от всех стихий, и нашло им применение, то и само включено в распорядок судьбы, способствует ее исполнению, помогает осуществлению ее установлений и с необходимостью ею используется. Но так как душа содержит в себе чистый, самодостаточный, самодвижущийся, самостоятельно действующий и совершенный логос,50 она оказывается свободной от всякого внешнего воздействия. Однако, выдвигая вперед другие образы жизни, склонные к рождению и причастные телесному, она оказывается вовлеченной в мироустройство.
Фр. 5. Ibid. 46, II 175, 2–15 W.
Но если некто, убежденный непреднамеренностью (αὐτόματον) и случаем (τύχη), думает отвергнуть [космический] порядок, то да будет ему известно, что в космосе нет ничего неупорядоченного, несвязного (ἐπεισοδιῶδες), беспричинного, неопределенного, произвольного (εἰκῇ), возникающего ниоткуда (ἀπὸ τοῦ μηδενὸς ἐπεισιὸν) или случайного (συμβεβηκός). Значит, нечего и думать об отказе от порядка, причинно-следственной связи (συνέχεια τῶν αἰτιῶν), единства начал и всеохватной власти первых [сущностей]. Лучше это определить так: случай есть распорядитель (ἔφορος) и связующая причина многочисленных последовательностей (τάξεων) или чего иного, будучи старшим по отношению ко всему сопутствующему (πρεσβυτέρα τῶν συνιόντων), сущность, которую мы иногда называем богом, а иногда принимаем за демона. Ведь когда событие вызвано высшей причиной, распорядителем является бог, когда же природными [явлениями] – то демон. Следовательно, все всегда осуществляется по определенной причине и ничто не входит в мир становления полностью неупорядоченным.
Фр. 6. Ibid. 47, II 175, 17 – 176, 10 W.
Почему же награды (αἱ διανομαὶ) раздаются не по заслугам? Или нечестиво даже начинать этот спор? Ведь блага зависят не от внешних причин, но от самого человека и человеческого выбора (αἱρέσει), который по преимуществу определяется лишь избранным [образом жизни] (ἐν τῇ προαιρέσει). Так что вопросы, возникающие у большинства, вызывают разногласия по незнанию. Нет иного дохода (ἐπικαρπία) от добродетели, нежели сама добродетель. Тогда добродетельный человек (σπουδαῖος) нисколько не умаляется (ἐλαττοῦται) случаем, потому как величие его души возвышает его над всеми случайностями. И случается это отнюдь не вопреки природе, ведь возвышенности и совершенства души достаточно для того, чтобы образовать (συμπληρῶσαι) лучшую природу человека. А так называемые противоположности (τά ἐναντία) в действительности упражняют, скрепляют и преумножают добродетель, и без них никогда не становятся прекрасными и добрыми (καλοὺς κἀγαθοὺς). Такое душевное расположение (διάθεσις) позволяет добродетельному человеку особенно почитать благо, лишь разумное совершенство считать ведущим к блаженной жизни, пренебрегая и не выказывая уважения всему остальному как чему-то незначительному.
Фр. 7. Ibid. 48, II 176, 12–21 W.
Так как истинная природа человека находится в его душе, а душа в действительности умной (νοερά) природы и бессмертной, причем присущие ей красота, благость и цель заключены в божественной жизни, то ничто из смертной породы (τῶν δὲ θνητοειδῶν) не властно что-либо привнести в совершенную жизнь или лишить ее счастья. Ведь наше блаженство пребывает в жизни ума, и никакая из промежуточных вещей (τῶν μέσων) не обеспечивает ее рост и не ведет к ее умалению. Так что бесполезно непрестанно болтать, как это делают некоторые люди, о Тихах (αἱ τύχαι) и неравных дарах случая (τὰ ἄνισα δῶρα τῆς τύχης).51

Эфес. Тиха императора Адриана (117–138 гг. н. э.)
Письмо 9: Македонию, О согласии
Stob. Anth. II xxxiii. 15, II 257, 5–17 W.
Письмо 10: Олимпию, О мужественности 55
Фр. 1. Stob. Anth. III vii. 40, III 319, 21 – 320, 5 H.
Мужественность главным образом следует понимать как непоколебимую умственную способность и наиболее зрелую умственную деятельность,56 которая определяет самоидентичность ума 57 и состояние надежной фиксации его на себе. Таков образ мужественности, наблюдаемый в жизни и проявляющийся либо сам по себе, либо соединившим свою мощь (ῥώμη) с надежным здравомыслием (τὴν ἐν τοῖς λόγοις μόνιμον κατάστασιν).
Фр. 2. Ibid. 41, III 320, 7–21 H.
Письмо 11: Поймению, О судьбе (?) 59
Stob. Anth. I i 35, I 43, 2–14 W.
Боги, связав (συνέχοντες) судьбу (εἱμαρμένη), прокладывают [ее курс] (ἐπανορθοῦνται) через весь космос. И такое выравнивание (ἐπανόρθωσις) [курса] приводит к уменьшению зол, их ослаблению, а иногда и устранению. Таким вот способом судьба устроена (διακοσμεῖται) ради благ, однако в процессе устроения не открывается полностью беспорядочной (ἄτακτον) природе творения. Более того, судьба (ἡ πεπρωμένη) сохраняется посредством этого выравнивания, и отклонение (τὸ παρατρέπον) ее сдерживается неуклонной (ἄτρεπτον) благостью богов, которая не позволяет ей погрузиться (ὑπορρεῖν) в [пучину] беспорядочного заблуждения.60 А если это так, то сохраняются и благовидность промысла (τό ἀγαθοειδὲς τῆς προνοίας), и самостоятельность (τό αὐτεξούσιον) души, и все самое наилучшее, – все будучи скреплено волей богов.
Письмо 12: Сопатру, О судьбе 61
Stob. Anth. I v 18, I 81, 8–18 W.
Сущность судьбы (εἱμαρμένη) лежит полностью в пределах природы. Природой же я называю неотделимую причину (ἀχώριστον αἰτίαν) порядка (τοῦ κόσμου) и то, что неотделимо охватывает все причины творения, а именно высшие сущности и устроения (διακοσμήσεις), заключенные в себе и обособленные (χωριστῶς… συνειλήφασιν ἐν ἑαυταῖς). Проявляющаяся в теле (σωματοειδὴς) жизнь и творческий разум (λόγος γενεσιουργός); формы в материи (τά ἔνυλα εἴδη) и сама материя; порождение (γένεσις), из этого всего составленное; движение, все это изменяющее; природа, которая приводит в порядок все то, что возникло; начала, концы и дела (ποιήσεις) природы; взаимные их сочетания (συνδέσεις); и движения от начала к концу – все это вместе и есть судьба.
Письмо 13: Сопатру, О диалектике
Фр. 1. Stob. Anth. II ii 6, II 19, 14 – 20, 16 W.
Все люди используют диалектику, так как эта способность всем присуща с детства, хотя бы отчасти, хотя одни причастны ей в большей мере, нежели другие. Этот дар богов ни в коей мере не следует отвергать; напротив, его следует укреплять особым о нем попечением, на опыте и специальными упражнениями (ἐν μελέταις… ἐμπειρίαις καὶ τέχναις). Разве не видишь, что он оказывается неизменно полезным на протяжении всей человеческой жизни: в общении с другими людьми, для беседы с ними в соответствии с общими понятиями и мнениями; при исследованиях в науках и искусствах, для обнаружения в них первых начал; для расчета перед началом каждого дела должного способа действия; и в качестве предварительного упражнения (προγυμνασίᾳ) для выявления удивительных (θαυμασίας) методов в разнообразных философских науках?
Ежели основательно поразмыслить, то станет понятно, что ни одна часть философии не может быть развита без диалектического рассуждения; ведь даже открыв какую-либо физическую теорию (δόγμα), мы все же обосновываем ее затем средствами логики; и, размышляя о богах, мы находим подобающее средство (συγκατασκευάσας) в диалектическом рассуждении. Да и в целом, ничего невозможно ни высказать, ни услышать, если отказаться от ее методов. Ведь даже для того, чтобы [сформировать] намерение не преподавать диалектику, надлежит научиться использовать диалектику. Так что склонны ли мы в ней упражняться или нет, рассуждаем мы все же посредством диалектики.62 Абсурдно ведь, разумом (λόγῳ) вынося обо всем суждение, отвергать эту точнейшую теорию о разумении (τὴν ἀκριβεστάτην τοῦ λόγου θεωρίαν). Разумом превосходя другие живые существа и получив его в качестве отличительного преимущества (ἀγαθὸν) человеческой природы, станем ли мы с ним связанные способности осуществлять случайным и беспечным образом? Примем ли мы охотно (ἀγαπῶμεν) согласованное обсуждение (τὴν συμμεμιγμένην διάσκεψιν) всевозможных предметов средствами разума, а самопознание разума,63 посред- ством которого он отвращается от всего остального и утверждает науку самого себя, важнейшую и наиболее почетную, как о том свидетельствует Дельфийская надпись (τὸ ἐν Πυθοῖ γράμμα), отвергнем как никуда не годную?
Фр. 2. Ibid. 7, II 20, 18 – 21, 14 W.
Перейдем теперь к философским занятиям (διατριβάς). Первыми из них идут те, которые ведут к воспоминанию (ἀνάμνησιν). Их, как Сократ показал в Ме-ноне ,64 мы видим проявляющимися в правильной постановке вопросов (καλῶς ἐρωτᾶν). Вторыми будут те, которые проводятся ради «маевтики», с целью выведения порождений на свет и отделения истинных среди них от ложных.65 Однако законную силу (κῦρος) все они получают благодаря диалектике; так как они представляют собой очищение рассуждения (διανοία) посредством спора, в ходе которого противоположные мнения спорящих сопоставляются и сталкиваются друг с другом. Чужие [мнения] предлагаются слушателям ради испытаний и упражнений (πείρας καὶ γυμνασίας): они как будто нападают на то или иное положение (εἰς θέσιν ἐπιχειροῦσιν), или же как бы испытывают (ἐξετάζουσι) какие-нибудь учения древних; и никакое из этих дел не может быть доведено до конца без диалектики. Итак, не освоивший науку рационального рассуждения (τὴν περὶ τὸν λόγον ἐπιστήμην) не сможет должным образом выдвинуть или принять какой-либо аргумент (λόγον).
Письмо 14: Сопатру, О воспитании детей 66
Stob. Anth. II xxxi 122, II 233, 19 – 235, 22 W.
Первый отпрыск любого животного или растения, хорошо побуждаемый ко всякой форме добродетели, получает наилучшие возможности для достижения надлежащей цели,67 и в отношении [будущего] благополучия детей первичное природное развитие, направленное к лучшему, последовательно развивается в направлении того совершенного состояния, к которому ему подобает продвигаться. Именно к этому обязательно приводит правильное воспитание, заранее засевая семена добродетели и помещая (ἐμποιοῦσα) в незрелые и непорочные (ἁπαλαῖς καὶ ἀβάτοις) души удивительную склонность к прекрасным занятиям.
Прежде всего, обратившись к органам восприятия, в отце, матери, наставнике и учителе оно раскрывает образец благородного поведения, чтобы дети, созерцая его, стремились им уподобиться. Затем, через упражнение, оно ведет их к добру и насаждает в них благие задатки, и хотя они сами еще не способны рассудить разумно, оно обращает их души к лучшему через ознакомление с благом; кроме того, оно производит созвучный (συμφωνίαν) отклик на добрые <или злые> дела в виде наслаждения или боли, дабы они не только творили добро, но и соответствующим образом были рады этому, и не просто избегали зла, но в решительный момент (ἐγκαιρότατα) испытывали к нему отвращение.
Когда они достаточно продвинутся на этом пути (ведь освоение всего этого должно предварять всякую правильно организованную жизнь), оно наставляет их стыдиться плохого и стремиться к доброму, благодаря чему они могли бы избежать всего злого и выработать некую осмотрительность по отношению к нему, стремясь в то же время к добрым делам и приобретши страстное стремление к ним. После таких увещевательных предписаний, хотя и немногословных, но обладающих большим влиянием на тех, кто им внимает, таких как «надлежит…», а, когда нужно, «не следует…», «до какой степени?», «какова наилучшая [мера]?» и «кто так поступает?», оно придает их мышлению соразмерность, позволяющую адекватно реагировать на словесные предписания других людей,68 таких как законодатель или учитель. Ведь решающее значение имеет возможность передать подобающим образом распоряжения и увещевания, ведущие к наставлению в добродетели, и через расхожие мнения (τὰ ἐν κοιναῖς γνώμαις), и через практические упражнения (τὰ ἐν ἔργων ἀσκήσει), и в обучении речам, и в форме наставления в том, что следует делать (πρακτέων), а что нет, и в виде житейских советов (τὰ ἐν ταῖς τῆς ζωῆς κατασκευαῖς).
И лишь когда они достаточно освоили все это, следует обратиться к их разуму, 69 начав с простейшего и общеизвестного и постепенно продвигаясь, день за днем и понемногу, к объяснениям причин (τοὺς τῆς αἰτίας ἀπολογισμούς). Однако требуется соблюдать особую осторожность в изложении предметов, нуждающихся в научной ясности (δι’ εὐκρινείας ἐπιστημονικῆς), тем, чьи мыслительные способности (διανοίαις) еще не сформировались окончательно; напротив, им следует рассказывать, как говорится <…>,70 и подготавливать разумение (διάνοια) слушателей убеждениями в наиболее подходящей для них форме. После того, как они достаточно поупражнявшись во всем этом, для завершения возведения их к добродетели (τῆς εἰς ἀρετὴν ἀγωγῆς), следует сделать так, чтобы им стали понятны определения отдельных добродетелей, и передать им высшую теорию о причинах, и пусть укоренится в их сознании совершенство разумения, непорочная и неопровержимая наука и достоверность познания,71 то есть истина. Ведь восхождением [к этим высотам] и достигается наивысшая цель в воспитании детей.
Письмо 15: Сопатру, О неблагодарности
Stob. Anth. II xlvi 16, II 262, 14–23 W.
Неблагодарность (ἀχαριστία) – это нечто такое, чего следует избегать; огорчает она еще и по другой причине, так как мешает благу прийти и явить себя, совершенно уничтожает область его применения, серьезно мешает добрым делам внешне проявляться и лишает весь мир всякой [божественной]72 помощи. Посему это великое зло. Я бы, во-первых, призвал всякого мужа блюсти верный счет (λόγον ὀρθὸν) дружеских благодеяний и, во-вторых, с благодарностью принимать благодеяния, тем самым, через эту благодарность, способствуя свершению еще большего числа благих дел.
Письмо 16: Сопатру, О добродетели
Фр. 1. Stob. Anth. III i. 17, III 9, 5–10 H.
Фр. 2. Ibid. 49, III 19, 6 – 20, 9 H.
В уме, чистом и свободном от всех телесно-подобных образований,73 открывается видение добродетелей. Качество этого можно понять так: красота, соразмерность, истина, неизменная тождественность и простота, все превосходящее величие, непреодолимое совершенство и предел всего сущего, и чистота, все превосходящая и ни с чем не смешанная. Для того же, чтобы показать, что все эти [качества] действительно таковы, достаточно привести один довод. Когда ты рассматриваешь умопостигаемую форму 74 добродетели, впредь представляй ее неделимо отделенной 75 от себя самой среди всех живых существ таким образом, что, хотя причастные ей вещи множатся,76 сама она остается единой; хотя все относящиеся к ней вещи делятся, она остается неделимой; хотя все они возникают и уничтожаются, сама она остается нерожденной (ἀγέννητον) и нетленной; хотя они уходят в несходство (ἀνομοιότητα), она всегда остается той же, не движимой исхождением из нее всего возникающего и не отделенной (διιστάμενον) от себя через присутствие во всем том, что от нее отделилось, ни проявляющейся в них и не разрастающейся вместе с ними, и не подвергающейся при их посредстве какому либо иному изменению. Так ты увидишь ее присутствующей во всех вещах неизменной (τὸ αὐτὸ), обеспечивающей как постоянство сущности каждой причастной ей вещи, так и достижение ими всеми наилучшего из возможных для них состояния. В соответствии с этим принципом украшает она людей прекраснейшими дарами, наиболее возвышенными формами мысленной активности, наиболее совершенными логосами (λόγοις) души и жизненными силами, превосходящими всякое становление (γένεσιν).
Фр. 3. Stob. Anth. III xxxvii 32, III 706, 3–6 H.
Благим надлежит назвать того, кто, ограничившись (διασῴζων) наиболее совершенной деятельностью в пределах отвлеченного ума,77 раскрывается в присутствии умопостигаемой красоты и причастен сущности и силе божества.
Фр. 4. Stob. Anth. IV xxxix. 23, V 907, 7–9 H.
Счастлив тот, кто подобен, насколько это возможно, божеству, совершенен, прост и чужд (ἐξῃρημένος) человеческому образу жизни.
Письмо 17: Сопатру, О достоинстве (περὶ αἰδοῦς)
Stob. Anth. III xxxi 9, III 671, 2–5 H.
Таким образом, можно сохранить достоинство, почитая благие обычаи, удалившись от всего непристойного и искоренив в душе бесстыдство, через которое большинство попадает в ловушки, расставленные непристойностью.78
Письмо 18: Сопатру, Об истине
Stob. Anth. III xi. 35, III 443, 6–17 H.
Истина, как показывает само слово,79 создает обращение (ποιεῖ τὴν ἐπιστροφὴν) к богу и к беспримесной божественной деятельности. Создание же образов (εἰδωλοποιία), подражание, соединенное с мнением (δοξομιμητικὴ), по выражению Платона,80 ведет к блужданию в безбожной тьме.81 Если первое находит свое завершение в умопостигаемых и божественных формах, а также среди подлинно сущих (ὄντως οὖσι), вечных и неизменных сущностей, то последнее обращено к бесформенному,82 несущему и постоянно меняющемуся, пребывая из-за него в ослеплении.83 Если первое созерцает сущее, то последнее принимает ту форму, которая соответствует представлениям большинства. Потому первое общается с умом и взращивает умное начало в нас, в то время как второе, вечно мнящее, поражено неразумием 84 и постоянным обманом.85
Письмо 19: Неизвестному получателю, О брачном союзе
Stob. Anth. IV xxiii. 57, IV 587, 14 – 588, 2 H.
С тем, что муж правит, а жена подчиняется, [все] согласятся. Однако форма этого правления отлична от власти господина над рабом, которая призвана служить лишь интересам сильнейшего; и не как в случае с ремеслом,86 которое заботится лишь о низменном. Скорее, она подобна публичной власти (τὸ πολιτικόν), в равной мере учитывающей общие интересы.87
Письмо 20: Неизвестному получателю, О власти (?)
Stob. Anth. IV v. 62, IV 219, 4–9 H.
Все достойное расцветает, а подвергнутое бесчестию – увядает. И это наиболее заметный признак хорошо организованной власти. Ведь она побуждает подданных к лучшему образу жизни, каждому воздавая по достоинству, и наполняет города лучшими нравами.88
Список литературы Ямвлих Халкидский. Письма: предисловие, перевод, комментарии, приложения, указатели
- Афонасин Е. В., пер. (2003) Климент Александрийский. Строматы, в 3-х тт. (Санкт-Петербург)
- Афонасин Е. В., Афонасина Е. В., пер. (2009) Нумений из Апамеи. Фрагменты и свидетельства, ΣΧΟΛΗ 3, 213-278
- Афонасин Е. В. (2009) «Ямвлих в Афинах», Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Серия: Философия 4.1, 26-35
- Месяц С., пер. (2008) Порфирий, Подступы к умопостигаемому, ΣΧΟΛΗ 2, 227-308
- Brisson L., ed. (2005) Porphyre, Sentences, Etudes d'introduction, texte grec et traduction française, commentaire avec une traduction anglaise de John Dillon, vols. 1-2 (Paris)
- Cameron A. (1967) "Iamblichus at Athens", Athenaeum, n. s. 45, 143-153
- Dillon J. (1987) «Iamblichus of Chalcis», ANRW II 36.2, 863-909
- Dillon J., Finamore J., eds. (2002) Iamblichus, De anima (Leiden)
- Dillon J., Hershbell J., eds. (1991) Iamblichus, On the Pythagorean Way of Life (Atlanta)
- Dillon J., Polleichtner W., eds. (2009) Iamblichus of Chalcis: The Letters (Atlanta)
- Fritz K. von., ed. (1971) Pseudepigrapha I: Pseudopythagorica -Lettres de Platon -Litteraturepseudepigraphique juive, Entretiens Hardt 18 (Vandoevres/Geneve)
- Morello R., Morrison A. D. (2007) Ancient Letters. Classical and Late Antique Epistolography (Oxford)
- O'Meara D., Schamp J., eds. (2006) Miroirs de prince de l'Empire romain au IVe siècle (Fribourg/Paris)
- Pradeau J.-F., ed. (2009) Les Sophistes, vols. 1-2 (Paris)
- Shelton K. J. (1979) "Imperial Tyches", Gesta 18, 27-44
- Städele A. (1980) Die Briefe des Pythagoras und der Pythagoreer (Meisenheim a.Glan)
- Thesleff H., ed. (1951) The Pythagorean Texts of the Hellenistic Period (Åbo)
- Thesleff H. (1961) An Introduction to the Pythagorean Writings of the Hellenistic Period (Åbo)
- Thesleff H. (1971) "On the Problem of the Doric Pseudo-Pythagorica", Fritz 1971, 57-102
- Wachsmuth C., Hense O., eds. (1884-1912) Stobaeus, Anthologium (Berlin)