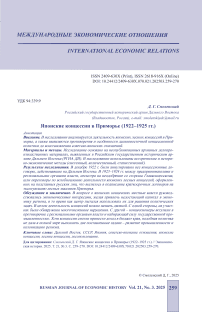Японские концессии в Приморье (1922–1925 гг.)
Автор: Смоленский Д.Г.
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Международные экономические отношения
Статья в выпуске: 3 (70) т.21, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В исследовании анализируется деятельность японских лесных концессий в Приморье, а также выявляются противоречия и особенности дальневосточной концессионной политики до восстановления советско-японских отношений. Материалы и методы. Исследование основано на неопубликованных архивных делопроизводственных материалах, выявленных в Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока (РГИА ДВ). В исследовании использованы исторические и историко-экономические методы (системный, количественный, статистический). Результаты исследования. В декабре 1922 г. были аннулированы все концессионные договоры, действовавшие на Дальнем Востоке. В 1923–1924 гг. между предпринимателями и региональными органами власти, несмотря на неодобрение со стороны Главконцесскома, шли переговоры по возобновлению деятельности японских лесных концессий, оформленных на подставных русских лиц, что вылилось в подписание краткосрочных договоров на эксплуатацию лесных массивов Приморья. Обсуждение и заключение. В вопросе о японских концессиях местные власти руководствовались экономическими интересами, желая привлечь недостающий капитал в экономику региона, в то время как центр пытался использовать их для решения политических задач. В целом деятельность концессий можно назвать двоякой. С одной стороны, на участках были обнаружены многочисленные нарушения. С другой – концессионеры вступали в противоречие с региональными органами власти и набирающей силу государственной промышленностью. Хотя концессии смогли принести доход в бюджет края, подобная политика не дала в полной мере выполнить две поставленные задачи – развитие промышленности и колонизацию региона.
Дальний Восток, СССР, Япония, советско-японские отношения, японские концессии, лесные концессии, лесопользование
Короткий адрес: https://sciup.org/147252134
IDR: 147252134 | УДК: 94:339.9 | DOI: 10.24412/2409-630X.070.021.202503.259-270
Текст научной статьи Японские концессии в Приморье (1922–1925 гг.)
Япония – традиционный импортер качественной древесины. Дальневосточный лес является одной из важных позиций российско-японской торговли со времен СССР. На сегодняшний день, несмотря на введенные санкционные ограничения и попытки отказа от российской древесины со стороны Токио, торговля лесоматериалом между странами не прекращается полностью, а даже, наоборот, постепенно увеличивается. Подобное можно проследить и в 1920-х гг., когда в сложных политических отношениях выстраивался экспорт дальневосточных лесоматериалов в Японию в рамках концессионной политики.
В исследовании анализируется деятельность японских концессионеров в области лесного хозяйства Дальнего Востока, а также выявляются противоречия и особенности дальневосточной концессионной политики до восстановления советско-японских отношений в 1922–1925 гг.
Обзор литературы
Изучением лесных концессий в Приморье в период Гражданской войны 1920– 1922 гг. занимался Ю. И. Манько [7], показав в своем исследовании хищническую деятельность японских предпринимателей и провал концессионной политики Дальневосточной республики. Н. С. Марьясова [8] указывала на противоречие между региональными и центральными властями по японским концессиям до восстановления советско-японских отношений. В целом тема лесной концессионной политики на
Дальнем Востоке и японских лесных концессий в исторической литературе освещена слабо. Исследователи советско-японских отношений уделяли внимание нефтяным, угольным и рыболовным японским концессиям, начавшим работать в СССР с 1925 г.
Научная новизна данной работы состоит в раскрытии деятельности концессий, де-факто принадлежавших японскому капиталу, до нормализации дипломатических отношений между СССР и Японией в 1922–1925 гг.
Материалы и методы
Исследование опирается на корпус неопубликованных документальных источников, впервые вводимых в научных оборот. Архивные материалы раскрывают концессионную политику региональных органов власти, деятельность иностранных предпринимателей и государственных предприятий лесной промышленности региона. В качестве опубликованных источников использовались статистические материалы по экономике Дальневосточного края, дипломатические документы по советско-японским отношениям и периодические издания 1920-х гг. [1; 4].
В исследовании используются исторические и историко-экономические методы. Системный метод позволил рассмотреть лесные концессии как элемент советско-японских отношений и концессионной политики. Количественный и статистический методы использовались для выявления численных характеристик и их анализа, связанных с итогами деятельности концессионеров.
Результаты исследования
В первое десятилетие XX в. лесная промышленность Дальнего Востока, в частности Приморья, Приамурья, Забайкалья, Камчатки и Сахалина, была представлена мелкими предприятиями, обеспечивавшими потребности лишь местного рынка. Причинами отсутствия экспорта лесоматериалов являлись как политика царского правительства, при которой лесные участки сдавались на краткосрочную аренду (2–4 года) только российским гражданам, так и конъюнктурой мирового рынка, в результате чего европейский и американский лес удовлетворял потребности восточных рынков и составлял сильную конкуренцию лесоматериалам из России1.
Тяжелая финансовая ситуация в связи с начавшейся Гражданской войной и интервенцией заставила местные правительства искать источники доходов, что вылилось в идею предоставления долгосрочных лесных концессий. В первую очередь частный капитал был заинтересован в эксплуатации лесных массивов Приморья, которое, по сравнению с другими областями лидировало по доступной лесопокрытой площади и за счет портов и железнодорожных магистралей имело логистическое преимущество, сразу выходя на ближайшие экспортные рынки.
Начало долгосрочной эксплуатации лесов было положено в 1920 г. решением правительства Приморской областной земской управы о целесообразности сдачи неэксплуатируемых участков. Опасаясь засилья японского капитала и ссылаясь на дореволюционное законодательство, местные властяи приняли решение о заключении договоров с японскими промышленниками через русских подставных лиц, которые получали от посредничества коммерческую выгоду2.
В 1921–1922 гг. пришедшее на смену Земской управы правительство братьев Меркуловых сдало в эксплуатацию 11 лесных участков с обязательством строительства обрабатывающих предприятий сроком до 24 лет следующим подставным лицам: И. К. Волковинскому (мыс Мурашко), Г. Ю. Венде (Коппи и Нельма), П. И. Делле (Мули, Восточный Тумнин, Акур и Сюркум), Е. А. Власову (бухта Ванина), Г. И. Пикару (Ботчи), П. А. Орлову (Хадя), Г. И. Старовскому (Коппи и Нельма) и
Н. Н. Сергееву (Самарга). В общей сумме за концессионерами на побережье Татарского пролива было закреплено 2,7 млн дес. лесной площади3. Участки представляли собой незаселенные районы с елово-пихтовыми и лиственными насаждениями с прилегающими реками и бухтами, выходящими в Японское море. Основными заготавливаемыми материалами являлись деловая древесина и сырье для бумажного производства, которые имели спрос в Японии [6, с. 109].
После окончательного установления советской власти на Дальнем Востоке концессионная политика в регионе стала строиться на основе законодательства РСФСР, а позже и СССР. Заключение концессионных договоров было отнесено к исключительной компетенции Совета народных комиссаров (СНК). При правительстве в марте 1923 г. был создан Главный концессионный комитет (Главконцесском), задачами которого являлись выработка условий соглашений и наблюдение за работами на концессиях [3, с. 163].
В декабре 1922 г., после присоединения Дальнего Востока к РСФСР, концессионные договоры, действовавшие в регионе, были аннулированы. Их было возможно перезаключить на основе законов Советской России при условии уплаты задолженности государству со дня эксплуатации концессионных объектов независимо от прежних платежей. В это же время в регионе выстраивается ответственная за концессионным делом структура органов власти. В январе 1923 г. в составе Дальневосточного революционного комитета (Дальревкома) была образована Дальневосточная концессионная комиссия (Дальконцесском), в задачи которой входили наблюдение и контроль над концессиями в регионе. При этом Далькон-цесском был полностью подотчетен Глав-концесскому и являлся лишь промежуточным звеном при рассмотрении договоров. Вопросы концессионирования, относившиеся к сфере лесного хозяйства, возлагались на уполномоченного Наркомата земледелия (Уполнаркомзем). Дальневосточное земельное управление (Дальземуправление) совместно с Дальконцесскомом вырабатывали условия концессионных лесных договоров [3, с. 164–165].
Региональные и центральные власти по-разному смотрели на концессионную политику на Дальнем Востоке. Советское руководство старалось использовать богатый ресурсами регион в качестве инструмента внешней политики. В первой половине 1920-х гг. был заключен ряд концессионных договоров, которые должны были прервать экономическую блокаду СССР и наладить отношения с капиталистическими государствами [3, с. 164]. Заинтересованный в эксплуатации региона японский капитал при этом не допускался. В отношениях с Японией советское правительство придерживалось тактики предоставления концессий только после вывода иностранных войск с Северного Сахалина. Исходя из этого, Главконцесском вплоть до восстановления советско-японских отношений в 1925 г. не утвердил ни одного японского концессионного предложения [5, с. 322–323].
Восстановление экономики Дальнего Востока после окончания Гражданской войны и интервенции шло медленно. Центр до конца 1920-х гг. не мог в полной мере оказать финансовую помощь региону, в результате чего региональным властям приходилось опираться на собственные силы. В условиях нехватки средств необходимо было развивать в первую очередь ориентированные на экспорт отрасли экономики для получения валюты. В 1923 г. был образован государственный трест «Дальлес», на который возложили задачи экспорта лесоматериалов. Однако недостаток капиталовложений в лесной отрасли в первые годы вынуждал региональные власти в рамках концессионной политики возобновить практику сдачи лесных участков частному капиталу. На пятой дальневосточной конференции РКП(б), собравшейся в мар- те 1923 г., была признана необходимость широкого привлечения частного капитала в области каменноугольной, золотой и лесной промышленности [2, с. 132].
При этом русские лесопромышленники не обладали большими капиталами для долгосрочной эксплуатации участков на концессионных началах. Бóльшая часть из них ограничивались небольшими объемами экспорта, участвуя в публичных торгах на краткосрочную эксплуатацию лесных участков. Выходом из сложившегося положения являлось привлечение иностранного капитала, в первую очередь японского, который был заинтересован в продолжении эксплуатации лесов Приморья. Интерес к дальневосточному лесу в Японии был вызван следующими причинами: мощное землетрясение в сентябре 1923 г., ограниченность собственного запаса древесины, стремление стать мировым лесоэкспорте-ром, развивающаяся бумажная промышленность и нежелание зависеть от США, лесоматериалы которых были более дорогими и менее качественными4.
В целом в ходе реализации концессионной политики в лесном хозяйстве региональные власти наметили две задачи: во-первых, развитие промышленности путем наращивания экспорта лесоматериалов и, во-вторых, колонизацию отдаленных слабозаселенных районов за счет привлечения рабочей силы и строительства жилья.
В апреле 1923 г. СНК РСФСР в лице Дальревкома перезаключил договоры на долгосрочную эксплуатацию государственных лесов Дальнего Востока сроком на 24 года с общей площадью 1,8 млн дес. со следующими концессионерами: Е. А. Власовым (бухта Ванина), П. И. Делле (Сюркум), М. П. Делле (Коппи), Г. И. Пикаром (Ботчи), П. А. Орловым (Хадя), Т. Л. Гродецким (мыс Мурашко) и Н. Н. Сергеевым (Самарга)5.
В рамках освоения региона контрагент обязывался построить фабрики и заводы
-
4 РГИА ДВ. Ф. Р-1763. Оп. 1. Д. 248. Л. 311.
-
5 Там же. Л. 12 об., 381 об.
-
6 Там же. Л. 414–419.
-
7 Там же. Л. 381 об., 409, 419, 422–423.
по механической и химической обработке древесины, соорудить рабочие поселки и дома для лесных служб, открыть кредит переселенцам. Концессионеры получали право совещательного голоса при разработке хозяйственного плана на сданную им площадь. На предприятии допускался наем иностранных рабочих не свыше 50 % от общего числа с постепенным уменьшением доли иностранцев. Лесоматериалы освобождались не только от вывозимых пошлин и сборов, но и от лицензии, тем самым нарушая монополию внешней торговли. Оборудование и материалы для концессии освобождались от ввозимых пошлин, в то время как продовольствие, одежда и прочее ввозились на общих основаниях. Контрагент обязывался вносить плату за лес, лесомелиоративные работы, лесоустройство, дополнительные сборы, штрафы и гербовый сбор6.
Также контрагент обязывался предоставлять в распоряжение государства не свыше 10 % лесоматериала с начислением не свыше 10 % предпринимательской прибыли. Расчет полагалось проводить золотым рублем или твердой иностранной валютой по курсу биржи Нью-Йорка. До окончания договоров имущество концессионера не могло быть национализировано, за исключением нарушения условий документа. Формальные задолженности и штрафы, зафиксированные до установления советской власти, считались аннулированными. Перезаключенные договоры ввели более твердые обязательства по постройке обрабатывающих предприятий с обязательством государства возврата залога по мере выполнения строительной программы7.
Вопрос привлечения концессионного капитала в лесную промышленность Дальнего Востока рассматривался также в центре. На заседании Главконцесскома от 26 мая 1923 г. было обозначено, что к иностранным капиталовложениям стоит относиться осторожно для недопустимости создания конкуренции с государственными предприятиями [8, с. 40–41]. В рамках данного курса признавалось желательным привлечение конкурирующего иностранного капитала, как, например, германского или американского, и отказ японцам в сдаче концессий.
Несмотря на начало работ со стороны концессионера и внесение первых платежей в региональный бюджет, 21 июня 1923 г. СНК РСФСР в связи с несоответствием с типовыми концессионными договорами отказал в утверждении документов. Уже 10 июля Главконцесском предложил заключить предпринимателям новые договоры. В них отсутствовали точные указания на инструкции по работе на участках, не были оговорены конкретные виды отпуска леса и суммы штрафов. Главной проблемой являлись менее выгодные положения концессионеров: срок сдачи участка снижался до 20 лет, обязывалось соблюдение правил монополии внешней торговли, оплата за идущий на экспорт лес принималась только английской валютой. Менялась и система платежей, по которой контрагент должен был внести сумму за древесину на основе Лесного кодекса СССР (вместо такс, применимых к Приморью), пользование землей и сооружениями, экспорт в размере 10 % и продаж на внутреннем рынке в 5 % долевых отчислений. Также контрагент уплачивал налоги, сборы и 5 % чистой прибыли на нужды колонизации региона. В договорах был сделан акцент на имуществе концессионера, которое, во-первых, могло быть реквизировано на основе Гражданского кодекса РСФСР (ст. 69, 70) и, во-вторых, являлось гарантией исправного выполнения обязательства, даже то, что находилось за границей8.
Таким образом, навязываемый со стороны центра типовой договор не был принят не только концессионерами, но и региональными органами власти. Лесной отдел Дальземуправления раскритиковал доку- мент, указав на невыгодность условий договора. Отказ от утверждения долгосрочных договоров негативно отразился на развитии лесной отрасли региона. Во-первых, было подорвано доверие к советской власти со стороны лесопромышленников. Так, Т. Л. Гродецкий потерпел финансовые убытки и перешел от долгосрочной эксплуатации к краткосрочной путем оформления участка через ежегодные торги9. Во-вторых, на заседании Совета Приморского лесного отдела от 13 сентября 1923 г. отмечалось, что задержка несет за собой полную приостановку эксплуатации лесов побережья. Концессионерам в это время приходилось скупать лес у крестьян [8, с. 42].
Несмотря на пагубные последствия отказа в утверждении договоров, центр все равно стоял на своем. В ноябре 1923 г. Главконцесском признал «невозможным ведение переговоров с японцами относительно лесных концессий до завершения советско-японских переговоров» [2, с. 135]. Не дожидаясь реакции из Москвы, в том же месяце региональные власти приняли решение о выработке соглашения на краткосрочную эксплуатацию лесов сроком на один год, которое стало бы переходным этапом к заключению долгосрочного договора. Тем не менее указания из центра не были проигнорированы: на основе типового договора были выработаны главные условия сдачи участков, часть из которых вошли в новое соглашение. За основу краткосрочного соглашения Дальконцесском взял апрельский документ с редактированием в нем пунктов, связанных с долгосрочными обязательствами10.
Срок сдачи участка снижался до года (сентябрь 1923–1924 гг.). От контрагента требовалось лишь построить дома для лесных служб и открыть кредит переселенцам. Монополия внешней торговли была подтверждена, и теперь концессионеры уплачивали сборы и пошлины наравне с государственными предприятиями. Пункт про аннуляцию штрафов до советизации Приморья был убран. В связи с отказом в утверждении апрельского договора имущество контрагента перешло в собственность государства и теперь предоставлялось во временное пользование контрагента. Отныне документ вступал в силу по подписании его только Дальревкомом11.
На предложение Дальконцесскома лесопромышленники с простаивающими участками ответили положительно. Концессионеры были согласны на новые условия и желали лишь уточнить ряд положений договора. В начале января 1924 г. был предложен новый проект, по которому контрагент сразу должен был оплатить 50 % от суммы за годовой отпуск леса, 10 % от стоимости полугодичного отпуска, 10 коп. с десятины за лесоустройство и 5 % местного налога с таксовой стоимости леса. Помимо первоначальных платежей, в силе сохранялись плата за лес, лесомелиорацию, лесоустройство, а также дополнительные сборы, штрафы и гербовый сбор. Вновь был изменен пункт, связанный с монополией внешней торговли. Теперь уплачивалась лишь лицензия без оплаты вывозных пошлин12.
Концессионеры добились включения пункта про гарантию со стороны Чосен-бан-ка, который играл роль посредника между концессионером и государством. В случае отказа одной из сторон заключать долгосрочный договор внесенная сумма за лесоустройство либо перечислялась со стороны банка в бюджет, либо возвращалась промышленнику. По желанию концессионеров были включены пункты об открытии кредита лишь рабочим участка (вместо всего находящегося на концессии населения) и установлены налоги за визу и регистрацию иностранных рабочих по нормам рыбной промышленности. В качестве крайнего срока заключения договора было указано 15 апреля 1924 г.13
-
11 РГИА ДВ. Ф. Р-1763. Оп. 1. Д. 248. Л. 77–81.
-
12 Там же. Л. 147–148, 151–152.
-
13 Там же. Л. 52–53 об., 151–152.
-
14 Там же. Л. 8–9, 168–169.
-
15 Там же. Л. 12, 42.
В январе 1924 г. продолжалось обсуждение условий договоров. С концессионерами велись переговоры одновременно с двух сторон – как с доверенным лесопромышленников ученым-лесоводом П. И. Делле, так и с представителями японского лесопромышленного синдиката «Рорио Рингио Кумиай». На переговорах от 4 января между П. И. Делле и Уполнаркомземом П. Т. Мамоновым было отмечено, что «мы считаем для себя более приемлемым иметь дело непосредственно с капиталистами, без различия их национальности и гражданства», т. е. договоры предполагалось заключить только при финансовой обеспеченности контрагентов. Кроме того, при рассмотрении предложений учитывалось согласие концессионера на заключение в дальнейшем долгосрочного договора. В случае желания срок действия краткосрочного соглашения оканчивался моментом утверждения долгосрочного договора. Проходившие в Дальзе-муправление предложения по эксплуатации лесных участков на крайне малые сроки без обязательств дальнейшей эксплуатации от-вергались14.
Кроме пожеланий лесопромышленников, в текст соглашений вносились правки со стороны государства. На заседании комиссии при Уполнаркомземе на ДВО от 11 января, куда входили представитель Уполнаркомзема, Дальконцесскома, Уполнаркомфина, ВСНХ и Приморского лесного отдела, не считая мелких изменений, был одобрен текущий проект краткосрочного соглашения. Однако уже 14 января Дальземуправление, обращаясь к Уполнаркомфину, выступило против сохранения пункта о платежах иенами по курсу Нью-Йоркской биржи в связи с тем, что иена по тому курсу котировалась выше15.
В результате к концу января был подготовлен новый проект, содержащий сле- дующие изменения: эксплуатация участка осуществлялась с января по сентябрь 1924 г., убран гербовый сбор, в постоянную оплату добавлен местный налог, платежи стали производиться золотым рублем или червонцем (иностранная валюта была привязана к курсу Госбанка и стала приниматься лишь по соглашению сторон), визирование иностранных рабочих стало производиться на общих основаниях, гарантия со стороны Чосен-банка более не принималась16.
Окончательно договоры на заготовку лесных материалов в государственных лесах Приморской губернии были подписаны 29 января 1924 г. между концессионерами П. И. Делле (Коппи), Г. И. Пикаром (Бот-чи), Е. А. Власовым (бухта Ванина) и Даль-земуправлением в лице П. Т. Мамонова. П. А. Орлов (Хадя) подписал документ лишь в июне. В марте договоры на эксплуатацию лесной площади в 1,1 млн дес. были утверждены со стороны Дальревкома17.
Таким образом, сравнивая концессионные договоры 1923 и 1924 гг., следует выделить следующие отличия. Во-первых, из перерабатывающего предприятия концессия превратилась в сырьевое, экспортируя необработанный лес. Во-вторых, вводились новые платежи, такие как 5 % местного налога и первоначальные взносы. В-третьих, произошел отход от использования иностранной валюты в платежах к переходу на червонец. В-четвертых, подтверждались правила монополии внешней торговли. В-пятых, договор утверждался лишь региональной властью без оповещения центра. Стоит также отметить, что с юридической стороны договоры не являлись концессионными – в их содержании отсутствует понятие «концессия». Помимо этого, для скорейшей работы на участке договор утверждался региональными властями, хотя по закону только СНК РСФСР имел право предоставлять концессии.
В итоге с 1921 по 1924 г. количество сданных в долгосрочную эксплуатацию участков снизилось с 11 до 4. Потеря интереса к приморскому лесу со стороны японцев объясняется следующим. Во-первых, установление советской власти в регионе отпугнуло иностранный капитал, опасавшийся национализации и препятствий в дальнейшей работе, в том числе хищнической деятельности. Во-вторых, с 1922 г. японские промышленники перешли к эксплуатации лесов оккупированного Северного Сахалина, который стал составлять конкуренцию приморским лесоматериалам.
При этом иностранные предприниматели, стоявшие за русскими подставными лицами, не были ни для кого секретом. В периодической печати прямо говорилось, что де-факто лесные массивы Приморья эксплуатируются японским капиталом [1, с. 11]. Главконцесском также был уведомлен о продолжающейся эксплуатации лесных массивов со стороны японцев, характеризуя сложившееся положение как «попустительство местных властей» [8, с. 43]. Несмотря на негативную реакцию со стороны центра, иностранный капитал воспринимался как один из ключевых факторов развития лесной промышленности региона. Даже государственные предприятия, в частности трест «Даль-лес», привлекали японское финансирование для поставок лесоматериалов18.
Русские подставные лица с финансовой точки зрения зависели от японского капитала, который меняли на свое усмотрение, и непосредственного участия в делах концессии не принимали. Например, когда председатель финансирующей компании японский подданный Ватанабе покончил жизнь самоубийством в связи с убытками от концессии, участок Нельма в 1922 г. был полностью заброшен. Не все лесопромышленники являлись подставными лицами. Предприниматель Е. А. Власов вышел из-под прямого контроля иностранного капитала и обрел финансовую самостоятельность, хотя и продолжил сотрудничать с японскими компаниями. Однако его концессия была малого размера, располагая всего 150–300 русскими рабочими, и, находясь в сложных материальных условиях, эксплуатировала по краткосрочному договору всего 300 дес.19 [6, с. 117].
Несмотря на условия договоров от 1921 г., концессионеры, за исключением Е. А. Власова, не строили обрабатывающие предприятия. На сданных участках были организованы помещения для лесной охраны, телефонные линии, в редком случае – радиостанции. Рабочие бараки были возведены по японскому образцу и не предназначались для жилья зимой. В качестве рабочей силы использовались русские, корейцы и китайцы, которых на момент декабря 1923 г. на всех участках насчитывалось порядка 1 500 чел. Особо концессионеры ходатайствовали о привозе японской квалифицированной рабочей силы по указанному в договоре соотношению. При этом японцы были вдвое менее производительны в рубке леса по сравнению с русскими рабочими, но зато хорошо зарекомендовали себя как сплавщики [1, с. 11]. Не обходилось и без нарушений на концессиях. Например, на Коппи отсутствовала медицинская помощь, не выдавали спецодежду, нарушался рабочий день и т. д.20
Советские органы в целом усилили надзор за деятельностью концессий, в результате чего была прекращена хищническая рубка леса, которую практиковали японцы в 1921–1922 гг. [7, с. 98]. Приморские лесничества докладывали о состоянии концессионных участков, которые имели проблемы с безопасностью эксплуатации лесных массивов. На Коппи и Хадя произошли крупные пожары, в результате чего лесничие настаивали на приостановке работы последнего участка. Однако в дело вмешался
Лесной отдел Дальземуправления, и концессия продолжила свою деятельность. Показателен пример района Самарга. В связи с незаконной заготовкой леса без утвержденного договора со стороны СНК РСФСР местные органы власти закрыли концес-сию21. В ответ 17 сентября 1923 г. японский пароход под покровом ночи попытался самовольно вывезти арестованное имущество, однако лесничие пресекли данную попытку. Через три дня пароход вновь вернулся и под прикрытием двух миноносцев сумел забрать часть имущества с участка [4, с. 490–492].
Концессионеры не могли нормально работать из-за вмешательства государства в свои дела, в связи с чем несли убытки с участков. Предприниматели жаловались в вышестоящие органы на Внешторг, который стремился продвигать советскую продукцию для увеличения внутреннего товарооборота и отказывал в выдаче разрешения на ввоз продуктов, одежды и орудий производства из-за границы. Кроме завоза товаров, у концессионеров начались проблемы с рабочей силой: Приморский губернский исполнительный комитет медлил с выдачей виз японским рабочим. По требованию властей на местах концессионеры П. И. Делле и Г. И. Пикар были вынуждены нанять на участки излишнее количество рабочих, находившихся в трудном материальном положении, что в итоге вылилось в 70 тыс. руб. расхода22.
Кроме того, усилилась конкуренция между концессиями и государственными предприятиями. Трест «Дальлес» обвинял японцев в регулировании цен на мировом рынке, занятии ниши СССР в экспорте леса и нечестной игре на торгах. Региональные власти, в свою очередь, обвинялись в недальновидности и в погоне за получением максимум доходов от сдачи лесных участков подставным лицам23. Трест стал актив- но вмешиваться в дела концессионеров и пытался монополизировать леса Приморья. Предприятие не только имело множество льгот, таких как получение лесосек и древесины без торгов, освобождение от налога на лес и платежей по лесоустройству и т. д., но и ходатайствовало о передаче под свой контроль концессионных участков. В результате «Дальлес» получил в свое распоряжение на постоянной основе Самаргу и Хадя на операционный 1924/25 г.24
К осени 1924 г. срок действия концессионных соглашений подходил к концу, концессионерам разрешили продлить срок работ до конца операционного года. С окончанием деятельности на участках изменилась и концессионная политика с прекращением краткосрочной сдачи участков как невыгодной для государства. Дальрев-ком принял постановление от 26 сентября 1924 г. о прекращении с октября продажи леса для экспорта по краткосрочным договорам частным лесопромышленникам, допустив лишь удовлетворение спроса на внутреннем рынке, и перехода к разработке долгосрочного типового договора25.
По окончании срока договоров работы на концессиях были остановлены, в 1925– 1926 гг. участки не эксплуатировались. В последующее время предприниматели были заняты вывозом и сплавом лесоматериала для продажи за границу. При этом погрузка затруднялась как естественными причинами, будь то невозможность вывоза в зимнее время, так и вмешательством со стороны государства. С одной стороны, на Коппи лесничий не только не допустил погрузку леса, но и по результатам свидетельств мест рубок оштрафовал П. И. Делле на сумму 184 тыс. руб. за хищение леса. С другой – Е. А. Власов из-за отказа со стороны Дальревкома «не по своей вине» не смог вовремя внести платеж за вывоз древесины, в результате чего концессионеру было отказано в вывозе лесоматериала, который к тому времени потерял половину стоимости. Несмотря на запрет на дальнейшие работы на участках, японский заведующий концессией Хадя зимой 1925 г. нанял корейских артельщиков для самовольной заготовки леса на сумму в 15 тыс. руб. При этом после обнаружения незаконных работ японцы опасались, что огласка подобного случая негативно скажется на переговорах относительно долгосрочной сдачи лесных участков26.
По оценке Лесного отдела Дальзему-правления, концессионные лесные участки на всем Дальнем Востоке могли бы принести в казну около 5,6 млн по сравнению с государственными в 3 млн и участками с участием смешанного капитала в 2,4 млн руб. Подводя итоги (таблица), мы видим, что концессионерами было заготовлено около 5 млн куб. футов с общим платежом, исходя из подсчета на основе расчетных листов и не считая штрафов, 500 тыс. руб. Для сравнения, трест «Дальлес» заготовил на экспорт 16,3 млн куб. футов на сумму 700 тыс. руб. Таким образом, за операционный 1923/24 г. валовый доход лесного хозяйства по Приморью определялся в сумме 2,169 млн руб., из которых четверть поступлений составили выплаты по краткосрочным соглашениям27.
В дальнейшей работе на концессиях был заинтересован японский лесопромышленный синдикат, спонсирующий подставных лиц. В своих обращениях японцы желали подписать долгосрочные концессионные договоры на эксплуатацию лесных участков Приморья. Пока шли переговоры с Дальконцесскомом, вставал вопрос о краткосрочной эксплуатации простаивающих концессионных участков. Лесной отдел Дальземуправления ходатайствовал о пе-
Таблица
Результаты деятельности концессионеров за январь – октябрь 1924 г.* Table
Results of concessionaires’ activities for January – October 1924
|
Концессионер / Concessionaire |
Лесной участок / Forest area |
Платежи, руб. / Payments (rub.) |
Объем, куб. фут / Volume (cubic feet) |
|
П. И. Делле / P. I. Delle |
Коппи / Koppi |
255 744 |
2 630 495,98 |
|
Г. И. Пикар / G. I. Pikar |
Ботчи / Botchi |
137 907 |
1 610 887,96 |
|
А. П. Орлов / A. P. Orlov |
Хадя / Hadya |
55 430 |
596 854,29 |
|
Е. А. Власов** / E.A. Vlasov** |
Бухта Ванина / Vanina Bay |
47 186 |
550 000 |
* Составлено по: РГИА ДВ. Ф. Р-1763. Оп. 1. Д. 267. Л. 18, 21, 23; Д. 248. Л. 388.
* Compiled according to: RGIA DV. F. R-1763. Inv. 1. C. 267. P. 18, 21, 23; C. 248. P. 388.
** По деятельности Е. А. Власова данных нет. Указаны платежи и объём по договору.
** There is no data on the activities of E. A. Vlasov. Payments and volume under the contract are indicated.
редаче участков синдикату в пользование на короткий срок, а японцы обращались к Уполнаркомзему с целью провести работы по рубке поврежденного пожарами леса на побережье Приморья. Однако Дальзему-правление отказало японцам в ходатайстве, опасаясь срыва переговоров по заключению долгосрочных договоров28.
В январе 1925 г. состоялось подписание Пекинского договора, по которому между СССР и Японией восстанавливались отношения – как дипломатические, так и экономические. В ст. 6 говорилось, что японские подданные и компании могут заниматься концессионным делом на территории Советской республики. Подобный шаг лишил смысла дальнейшую практику оформления участков на подставных лиц. В результате переговоров 1924–1927 гг. японские лесопромышленники добились утверждения лесной концессии на участках Коппи, Хадя и Сюркум общей площадью 990 тыс. дес. [8, с. 125].
Обсуждение и заключение
Итак, японцы через финансируемых подставных лиц владели концессионными лесными участками на территории Приморья с позволения региональных властей, несмотря на негативное отношение со стороны центра. Деятельность концессий была противоречивой. С одной стороны, она позволяла привлечь недостающий капитал в развивающуюся отрасль, увеличив экспорт лесоматериалов. С другой – прослеживалось явное пренебрежение договорами и желание получения быстрой прибыли с соответствующими нарушениями.
Концессионная политика в области лесного хозяйства на Дальнем Востоке была хаотичной и не смогла удовлетворить потребности ни государства, ни концессионеров. Концессии вступали в противоречие и с местными государственными предприятиями, которые желали самостоятельно эксплуатировать выданные участки и продавать лесоматериал на внешние рынки без посредников. Кроме того, промышленникам стало сложно работать из-за постоянных задержек экспорта и вмешательства местных властей в работу концессий, в результате чего участки становились убыточными.
Лесная концессионная политика на Дальнем Востоке выстраивалась региональными властями на основе опыта, полученного до советизации региона. Указания из центра, с одной стороны, позволили убрать в договорах пункты, не отвечающие интересам государства, с другой – сильно тормозили развитие лесной промышленности региона. В результате региональные власти использовали концессионные договоры, отличные от типовых, которые сами же утверждали без подтверждения СНК РСФСР.
Таким образом, из-за отсутствия четкой стратегии концессионирования японцы по- лучили в свое распоряжение лесные участки на крайне малые сроки. Несмотря на доходы бюджета, было невозможно выпол- нить поставленные задачи – колонизацию края и развитие деревообрабатывающей промышленности.