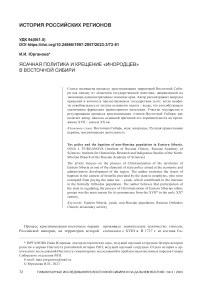Ясачная политика и крещение «инородцев» в Восточной Сибири
Автор: Юрганова И.И.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История российских регионов
Статья в выпуске: 3 (65), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена процессу христианизации территорий Восточной Сибири как одному из элементов государственной политики, направленной на экономико-административное освоение края. Автор рассматривает вопросы крещения в контексте предоставляемых государством льгот, когда неофиты освобождались от оплаты основного налога - ясака, что способствовало увеличению формально православного населения. Участие государства в регулировании процесса христианизации этносов Восточной Сибири, как полагает автор, явилось основной причиной его перманентности на протяжении XVII - начала ХХ вв. Российской империи, на территории которой
Восточная сибирь, ясак, инородцы, русская православная церковь, миссионерская деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/170200570
IDR: 170200570 | УДК: 94(561.5) | DOI: 10.24866/1997-2857/2023-3/72-81
Текст научной статьи Ясачная политика и крещение «инородцев» в Восточной Сибири
Процесс христианизации восточных окраин проживало значительное количество этносов, Российской империи, на территории которой соотносим с XVIII в. В 1727 г. из состава Си- бирской митрополии с центром в г. Тобольске, была выделена Иркутская епархия, на протяжении почти полутора столетий остававшаяся самой территориально обширной церковно-административной единицей Русской православной церкви. В 1764 г. была учреждена Иркутская губерния. В 1782–1783 гг. создано три наместничества: Тобольское, Колыванское и Иркутское, состоящее из Иркутской, Нерчинской, Якутской и Охотской областей. Затем, в 1796 г., территория Сибири была разделена на Западную и Восточную, соответственно Тобольскую и Иркутскую губернии [21, с. 36]. В XVIII в. Сибирь была территорией со стабильно повышающимся приростом населения (при отсутствии миграционных процессов и незначительности рекрутских наборов), превосходившим среднестатистические показатели по стране, и преобладанием русского населения (64–67% к началу XIX в.) [13, с. 97].
Налогом или натуральной податью в Сибири был ясак (ясачная подать). После включения сибирских земель в состав русского государства и в систему территориального администрирования была создана сеть зимовий и острогов как мест сбора ясака. Налог собирали мягкой рухлядью (мехами) и скотом. Первоначально ясачные дела находились в юрисдикции Сибирского Приказа, затем - Кабинета Его Императорского Величества (далее – Кабинет), занимавшегося имущественными вопросами императорской династии.
История ясачной политики русского государства получила достаточное освещение в отечественной историографии. По мнению исследователя начала ХХ в. П.М. Головачева, ясачный вопрос являлся определяющим во взаимоотношениях пришлых русских и коренного населения Сибири [5]. В 1920-х – 1930-х гг. присоединение Сибири рассматривалось как процесс завоевания, а сбор ясака – как важный элемент колониальной политики царизма в Сибири [3, с. 119]. Затем, когда в исторической науке возобладала точка зрения мирного присоединения, процесс объясачивания стал трактоваться не столь однозначно. Это, в частности, характерно для работ С.В. Бахрушина, благодаря которым в научный оборот было введено значительное количество ранее неизвестных исторических источников. На их основании было подтверждено, что в целом, с некоторыми исключениями (тунгусы, чукчи и др.), процесс объясачивания сибирских этно- сов носил мирный характер [1, с. 95–129; 2; 14; 15; 20]. Л.М. Горюшкин обосновал коронную принадлежность ясачного обложения [6]. В современной отечественной историографии признанными авторитетами в области изучения аграрного законодательства и землеустройства народов Сибири, в том числе и ясачной политики, являются представители иркутской исторической школы во главе с Л.М. Дамешеком [7; 8, с. 323–422; 9; 10; 16, с. 228–241]. В трудах сибирских историков отражены некоторые вопросы взаимосвязи ясачной политики государства и вовлечения народов Восточной Сибири в православие [11; 19].
Очевидно, что государственная власть была заинтересована в стабильности окраин, и правительственная политика была направлена на сохранение и увеличение численности местных этносов, в то время как ясакоплательщи-ки обеспечивали доходы государства. Размер возлагаемого на население ясака определялся реалиями расстановки сил и потестарно-по-литической ситуацией. В южных районах Сибири, на которые распространялось влияние монгольских государственных образований, объясачивание определялось возможностями каждой из сторон, вызывая ситуации двое-данства, когда часть кочевого населения имела возможность выйти за пределы территории русского влияния. Вместе с тем известен пример тунгусского князя Гантимура, многочисленный род которого принял ясачный оклад и стал союзником России в противостоянии с Китаем [3, c. 121].
На протяжении столетий ясак оставался характерной формой податной зависимости сибирских аборигенов от собственника земли, и их проживание на «породных землях» было важнейшим условием оплаты налога, собираемого на основании данных окладных книг. Первоначально сбор с «ясачных иноземцев» не регламентировался, сборщики «брали, что принесут», что приводило к многочисленным злоупотреблениям, истреблению пушных богатств и накоплению недоимок [10, с. 23]. Исследователи указывают, что до 1760-х гг. сбор ясака производился преимущественно натурой, но в связи с сокращением пушного промысла в 1763 г. было разрешено принимать ясачную подать и деньгами [8, с. 324].
В 1764 г. в г. Тобольске была учреждена Главная ясачная комиссия во главе с сибирским губернатором Д.И. Чичериным, а в сибирских провинциях - местные комиссии, результатом деятельности которых стало изменение порядка сбора ясака. Сбор становился обязанностью представителей местной родовой знати по принципу круговой поруки. Комиссиями была узаконена замена натурального (пушного) налога денежным: каждый род облагался мехом определенного вида, или деньгами, или тем и другим вместе. Была разрешена замена пушнины деньгами «в случае не улова зверя». Так, например, комиссией под руководством якутского воеводы М.М. Черкашеннинова для территории Якутского уезда в 1766–1769 гг. была установлена «соболино-лисья» система землепользования, когда землей наделялись лишь ясакопла-тельщики.
Л.М. и И.Л. Дамешек указывают, что во второй половине XVIII в. впервые в российской административно-финансовой практике были разделены финансовые интересы Казны и императорского Кабинета в Сибири, так как ранее пушнина поступала в Сибирский приказ и затем ее лучшие сорта направлялись в Кабинет. После ликвидации Сибирского приказа был издан именной указ императрицы Екатерины II «Об оставлении собираемой в Сибири мягкой рухляди и всего ясачного сбора с 1763 г. в ведомстве Кабинета по-прежнему», что юридически закрепило право собственности Кабинета на сибирский ясак [10, с. 23]. В 1822 г. на основании «Устава об управлении инородцев»1 ясачный сбор был переведен на денежную основу. Следует отметить, что на сибирские кочующие и бродячие народы не распространялись общегосударственные налоги.
Однако понижение количества ясачного сбора не прекращалось, что вызвало издание в 1826 г. «Положения о Ясачных комиссиях». В 1827 г. было подготовлено Сибирским ко-митетом2 и утверждено императором «Общее наставление комиссиям Западной и Восточной Сибири о составлении для кочевых и бродячих инородцев окладных ясачных книг». Задачами комиссий являлись «переобложение инородцев Сибири новым окладом ясака, сбор информационных материалов относительно претворения в жизнь сибирских узаконений 1822 г., прием от населения различных жалоб и передача их в главные управления Сибири». Комиссии в составе трех чиновников должны были руководствоваться установленным Уставом разделением сибирских инородцев на оседлых, кочевых и бродячих. Оседлые приравнивались к сословию государственных крестьян (со всеми обязанностями кроме рекрутской повинности), кочевые и бродячие оставались в ясачном налогообложении, но, «учитывая такую обширную территорию, комиссии с незначительным количеством состава людей не могли без содействия местной администрации справляться с поставленной задачей» [4, с. 83].
В 1832 г. на заседании Сибирского комитета было вынесено решение «о единообразном исполнении в обоих частях Сибири» налогового освобождения на 3 года для принявших крещение инородцев и вычете их доли из общего налогового сбора с рода, в том числе ясашной подати (на основании окладных книг). 23 декабря 1832 г. решение Комитета было утверждено императором и направлено для исполнения сибирским генерал-губернаторам. Полное налоговое освобождение на 3 года предусматривалось только для тех, кто, принимая православие, переходил на оседлый образ жизни, приобретая права и обязанности крестьянского сословия (Российский государственный исторический архив, далее – РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 289). В 1835 г. именным указом был утвержден новый размер ясачной подати, составляющей в целом в денежном и натуральном сборе около 450 тыс. руб. (122 тыс. по окладу 1763 г.). Однако он также не был успешным, и ясачные недоимки приобретали хронический характер. К началу ХХ в. ясак выплачивали бродячие инородцы Сибири, кочевые инородцы Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской губерний, Забайкальской области, большинство населения Якутской области и часть нерусского населения Архангельской и Пермской губерний [10, с. 24].
Содействуя крещению иноверцев, государство использовало различные инструменты для их привлечения в православие. Указом Петра I (1720 г.) предписывалось: «…которые крещенные разных народов люди восприняли право- славную греческого закона веру … давать льготы на 3 года, дабы тем призвать к восприятию веры греческого закона лучшую охоту, а с некоторых дворов и их дети приходят креститься только некоторые персоны, а не все того двора жители, одну льготу давать только тем, которые святое крещение принять перечисленные тягла, на прочих остаточное вневерить без всяких подати имать с другими в ряд» (Российский государственный архив древних актов, далее – РГАДА. Ф. 248. Оп. 14. Д. 796. Л. 937). Императорским указом 1731 г. предусматривались «всякие льготы» для новоокрещенных, указом 1733 г. предписывалось «нечинение обид и притеснений ясачным людям, живущим в Якутском воеводстве и в Камчатке», указом 1740 г. был подтвержден запрет «принуждения ко крещению», указом 1764 г. сохранялись трехлетняя ясачная льгота и одаривание крестами и иконами. Помимо этого, неофиты освобождались от наказаний за преступления или проступки, совершенные до крещения.
Подтверждением факта вступления в православную веру являлся документ, выдаваемый священнослужителями – билет, предъявляемый сборщикам ясака и/или в воеводскую канцелярию. Исторические архивы сохранили «билеты» о трехлетней льготе: «за взятие святого крещения на 1766 г. по окладу ясака не взять, а подлинный билет взять для свидетельства при сборной ясашной книге в ящику воеводской канцелярии» (РГАДА. Ф. 607. Оп. 2. Д. 84).
С целью контроля за христианизацией епископом Иркутским и Нерчинским Софронием (Кристалевским) были введены специальные «Реэстры о новокрещенных», куда заносились данные о крестившихся. Священнослужители были обязаны ежегодно отчитываться перед духовным заказчиком о численности неофитов в своем приходе, а заказчик в свою очередь предоставлял сводные данные в духовное правление. В табличной форме реестра за 1776 г., составленного веропроповедником Гаврилой Ноговицыным, помимо даты крещения, фамилии, имени и возраста неофитов, указывалось «ясашный или не ясашный» и «когда, кто дает об ясашной льготе билеты». В последней графе документа присутствуют отметки «билет дан по его просьбе» отцу/мужу/племянни-ку или «билет дан на имя ево то же числа». Всего по реестру Ноговицына было выдано 15 билетов, из которых 7 – ясашным (РГАДА. Ф. 416. Оп. 1. Д. 5. Л. 3–6). В реестре священника
Амгинской Преображенской церкви Д. Гоголева за 1775 г. сделаны отметки, что все крещенные мужчины – ясашные и всем выданы билеты. Отметим, что, согласно реестрам, билеты выдавались по просьбам, в том числе и детям: «Шологонского роду наслегу князьца Тембрина Лебедина родника его некрещенно-го тунгуса Болена Лебедина дочь его 6 лет…, а во святом крещении наречена Илария… билет даден по прощении Намского улуса Одейской волости и наслегу роднику и ясашному ново-крещенному Федору Васильеву» (РГАДА. Ф. 416. Оп. 1. Д. 5. Л. 33–36). По данным Якутской воеводской канцелярии, в 1770–1775 гг. священниками и веропроповедником было выдано более 600 билетов, на большинстве из которых имеются отметки канцеляристов и подканцеляристов о снятии ясака (РГАДА. Ф. 416. Оп. 1. Д. 5; Ф. 607. Оп. 2. Д. 85, 86). Очевидно, что в документах воеводской канцелярии отложились билеты, предъявленные либо сборщиками ясака, либо самими неофитами, что представляется лишь частью из выданных билетов. Учитывая кочевой образ жизни местного населения, можно предположить, что некоторые из билетов «не доходили» до места назначения. Кроме того, известны прецеденты игнорирования билетов местной администрацией. Епископ Иркутский и Нерчинский Иннокентий (Нерунович) в 1741 г. писал, что новоокрещен-ные «нередко подвергаются жестоким истязаниям» со стороны сборщиков ясака и поборам канцелярских служителей (РГАДА. Ф. 607. Оп. 2. Д. 15. Л. 7–8, 48–50). В документах Иркутского губернского правления имеется рапорт священника А. Бобровникова 1827 г. о «не признании бурятскими тайшами … оных билетов, якобы не имея повеления Главного начальства, взыскивающего с них подати» (ГАИО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 3839).
Формуляр билетов единообразен и начинается словами «По указу Ее Императорского Величества…», затем следует указание на место проживания, имя и фамилия (до крещения), возраст неофита, его имя, полученное при крещении, дата события, сведения о восприемниках и ссылка на льготу по уплате ясака, например: «… Иоанном Шадриным дан сей билет Канга-ласской волости наслега князьца Софрона Сы-ранова ясашному новокрещенному Белоногову якутским именуемым Туносор понеже сын ево родник ясашный якут Усабыт воспринял святое крещение мною священником сего генваря
1770 года, от роду 19 лет, во крещении наречен Григорием, у коего восприемником был Фома Охлопков. По указу Ея Императорского Величества, состоявшегося 1763 года генваря 23 дня, с означенного Ивана Белоногова ясак ясашным конным так и прочим сборщикам ясака и других податей с вышеописанного числа впредь на 3 года с него не взымать. Сей билет ему объявить в воеводскую канцелярию или ясашным сборщикам. Дан генваря 30 дня 1770 года» (РГАДА. Ф. 607. Оп. 2. Д. 85. Л. 12). В текстах билетов указывалась принадлежность окрещенного к роду, родовому князьцу - «родник князь-ца». Интересно, что у князьцов встречаются якутские имена, и можно сделать предположение, что они еще не были окрещены.
Одним из практических результатов выдачи билетов стал рост количественных показателей христианизации, так как после истечения срока льготы крещение принималось вторично в другой церкви или у другого священника, что в условиях кочевого или полукочевого образа жизни прихожан и дефицита духовных кадров было сложно установить. В связи с этим в 1778 г. предписанием епископа Иркутского и Нерчинского Михаила (Миткевича) указывалось: «Некоторый Иркутской епархии священник пришедшую к нему крещеную уже прежде назвавшуюся некрещенной обманом братских женку безовсякого о ней разведывания необ-учивши ее молитвам и святой веры вторично оную крестил... Подтверждаем указом, чтоб священник крестить желающих не спешил, но разведал бы, не были ли крещены прежде, и обучал бы молитвам и святой веры. Ежели сего исполняемо не будет, то за сие они священники лишены будут своих чинов» (Государственный архив Иркутской области, далее – ГАИО. Ф. 275. Оп. 1. Д. 1. Л. 11–11об.).
Предоставление ясачных льгот являлось предметом внимания Сибирских комитетов и высших законосовещательных и исполнительных органов империи. В 1832 г. на заседании Главного управления Восточной Сибири рассматривался вопрос о методике освобождения от налогов воспринимающих христианскую веру, а именно: «следует ли подлежащую, так же к сложению ясачную подать, взимаемую с целых инородческих родов или обществ, а не с каждого родовича отдельно, исключать из общего оплачиваемого родом оклада, или же сумма оного должна быть неприкосновенною, а причитающееся к сложению при сем случае количество сбора должно быть относимо на остающиеся в роде наличные души». В итоге, приняв во внимание заключения Советов общего губернского и главного управлений, а также утвержденное императором мнение Государственного совета (1826 г.), Сибирский комитет вынес решение о «причислении к христианским обществам с трех летнею льготой от платежа всех податей … По силе 2 статьи Высочайшего указа, данного Министров финансов в 21 день июня 1827 года, слагаемый с перечисляемых в другие сословия оседлых инородцев ясачный сбор исключается из окладных книг, а с остающихся в Роде взимается только то, что за сим вычетом следует» (РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 289. Л. 7).
Помимо этого, власть оказывала содействие церкви в случаях сопротивления крещению. Известно письмо сибирского губернатора и автора «Устава об управлении инородцами» М.М. Сперанского на имя алларского тайши Батора Васильева, в котором «начальник Сибири» предостерегал как Васильева, так и других родоначальников от действий, направленных на запрет крещения их родовичей (соплеменников) (ГАИО. Ф. 271. Оп. 2. Д. 4. Л. 272). В империи была законодательно установлена добровольность вступления в православную веру: «отнюдь не угрожая ничем, ни же приводя к этому насилием каковым-либо» (ГАИО. Ф. 271. Оп. 2. Д. 4. Л. 236–238). Духовные управления и консистории были обязаны рассылать поступающие к ним реестры (ведомости) о новоокрещен-ных в родовые, инородные управы и Степные думы в результате чего возникали конфликтные ситуации. Так, Степные думы Иркутского округа требовали, чтобы священнослужители согласовывали с ними списки желающих принять крещение, объясняя это тем, что в числе неофитов могли оказаться их соплеменники, совершившие какие-либо преступления, или беглые батраки. Помимо этого, значительная численность крестившихся, по мнению членов думы, могла приводить к недоимке ясака. В свою очередь, священники обвиняли родоначальников в совершении насильственных действий в отношении родовичей, выражавших желание принять православное крещение (ГАИО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 3839. Л. 2–3). При возникновении подобных инцидентов церковь прибегала к помощи местной администрации.
В письме архиепископа Иркутского, Нерчинского и Якутского Мелетия (Леонтовича)
миссионеру Г. Синявину отмечается недобросовестное отношение к составлению «росписи всех новокрещенных»: «…Потрудитесь заняться исправлением исповедной росписи о новокрещенных вашего миссионерского стана, применительно к форме». Архиерей указывает, что миссионер должен иметь «подробную перепись, основанную на ревизских сказках, проверенную по церковным документам, где должно пометить целиком все семейства, крещенных и некрещенных и в этом деле необходимо иметь справку с подворными списками, которые должны быть доставлены из родовых управлений по требованию» (ГАИО. Ф. 598. Оп. 1. Д. 3. Л. 19). Очевидно, что епархиальная власть требовала строгой отчетности в вопросах приведения к крещению и при возникновении конфликтных ситуации с местным населением опиралась на помощь государства. Можно утверждать, что льгота в виде трехлетнего освобождения от основного налога на территории Сибири являлась прерогативой государства, осознававшего необходимость повышения численности православного населения. Вместе с тем стремление к стабильности в пополнении Кабинета обеспечивало сохранность ясачного обложения кочевых и бродячих народов Сибири до 1917 г. Ясачные льготы являлись действенным инструментом для привлечения в православие, но при этом часть населения Восточной Сибири по-прежнему оставалась в язычестве, а часть соотносила свою веру с буддизмом. Так, миссионеры указывали, что к началу ХХ в. только в Енисейской епархии проживало более 2 000 язычников, а результаты духовной миссии были «крайне малоплодны» (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1894).
Но имели место и иные факты. В 1835 г. на заседании Сибирского комитета рассматривалось представление генерал-губернатора Восточной Сибири о награждении бурятского тайши А. Назарова и других старшин Ба-лаганских бурят «за выстройку за свой счет домов и снабжение скотом, хлебом и другими принадлежностями земледельческими 26 семейств инородческих, принявших Св. Крещение». Результатом данного представления стало произведение тайши Назарова и заседателя Степной думы А. Алексеева в последующий класс службы, а прочие участники получили благодарности (РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 312). Список бурят, «принявших крещение при За-ложном миссионерском стане Верхоленского уезда Иркутской губернии за 1877–1878 гг. для освобождения от уплаты ясака», содержит имена 117 человек в возрасте от 4 до 76 лет (ГАИО. Ф. 598. Оп. 1. Д. 4). Заметим, что все новоокрещенные буряты получили фамилию Сапожников. На основании выписки из журнала заседания комитета Православного миссионерского общества установлено, что верхоленский купец М.А. Сапожников в 1877 г. пожертвовал в фонд общества 1000 руб. Видимо, его фамилия давалась неофитам в знак признательности (ГАИО. Ф. 598. Оп. 1. Д. 3. Л. 28).
Одной из задач Русской православной церкви в сфере инкорпорации сибирских этносов в имперскую государственную систему была пропаганда оседлого образа жизни и традиций земледельческой культуры. Православные монашеские обители и миссионерские станы являлись профильными экономическими субъектами, тип хозяйствования которых формировался в зависимости от природно-климатических условий (земледелие, скотоводство, рыбные ловли, пивоварение и др.). Новоокре-щенные селились вокруг монастырей и станов, создавая поселки и деревни, включаясь в хозяйственную систему обители. Показательным примером подобной практики стала деятельность Алтайской духовной миссии, признанной делегатами Сибирского миссионерского съезда (Иркутск, 1910 г.) «миссией образцовой» [17, с. 6]. Учрежденная в 1830 г., Алтайская миссия к 1910 г. имела 25 станов и окормляла 380 поселений русских крестьян и крещенных алтайцев с населением более 52 000 человек [18, с. 371–372]. Тем не менее, показатели оседлого (крестьянского) населения Восточной Сибири возрастали в основном вследствие переселенческой политики государства, а численность крещенных оседлых была невелика – 5,5% от общей численности «инородческого населения» (см. Табл. 1).
В «Сведениях о делах по устройству иноверцев в Сибири…» отмечено, что «…племена Сибири, различаются одного от другого местностью и климатом обитаемых стран, промыслом, верой и свойствами. Так буряты не имеют почти никакого сходства с якутом, камчадалом с остяком или самоедом». Члены Сибирского комитета осознавали, что представители населения южных плодородных земель Сибири «охотно принимают оседлость, соединенную с выгодными льготами», а для жителей северной
Численность инородцев Восточной Сибири в 1829-1830 гг.
(по данным Сибирского комитета)
Таблица 1
|
Оседлые, торговые и земледельцы |
Кочевые христиане |
Кочевые иноверцы |
Бродячие христиане |
Бродячие иноверцы |
Всего (душ) |
|
|
Енисейская |
2 068 |
12 529 |
460 |
1 798 |
14 294 |
31 149 |
|
губерния |
(6,6%) |
(40,3%) |
(1,4%) |
(5,8%) |
(45,8%) |
|
|
Иркутская |
19 236 |
4 429 |
156 352 |
2 313 |
2 177 |
184 507 |
|
губерния |
(10,4%) |
(2,4%) |
(84,7%) |
(1,3%) |
(1,2%) |
|
|
Якутский округ |
нет |
147 950 (92,4%) |
932 (0,6%) |
10 893 (6,8%) |
220 (0,1%) |
159 995 |
|
Охотское приморское управление |
нет |
1 413 (22,7%) |
нет |
3 110 (50%) |
1 702 (27,3%) |
6 225 |
|
Камчатское приморское управление |
нет |
нет |
нет |
нет |
3 585 |
3 585 |
|
Всего |
21 304 |
166 321 |
157 744 |
18 114 |
21 978 |
385 461 |
|
(5,5%) |
(43,1%) |
(41%) |
(4,6%) |
(5,7%) |
Источник : РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 53. Л. 167.
и средней полосы «сомнительно, чтобы инородец, привыкший от века к столь вольной жизни, легко согласился променять свою подвижную юрту на постоянную крестьянскую избу и перешел к тяжким и скучным для него трудам земледельца» (РГИА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 109. Л. 8об.–9об.). Данной позиции придерживалось и Министерство государственного имущества, указывая, что у кочевых сибирских этносов «нет сильного желания к переходу в оседлое состояние» и с начала XIX в. численность желающих «оказалась ничтожной». В период работы второй ясачной комиссии поступали многочисленные прошения о возвращении в кочевое состояние. Вероятно, одной из причин данного явления послужило окончание периода льгот и необходимость оплаты крестьянских податей, превосходящих ясак.
Очевидно, что на территории Восточной Сибири налоговая политика государства была специфичной и учитывала особенности региона. Но и в данной специфике имелись исключения из правил. Примером этого могут служить взаимоотношения российского государства и жителей Чукотского полуострова. Установить мирные отношения с жителями Чукотки не удавалось на протяжении почти двух столетий. В середине XIX в. якутский гражданский губернатор доводил до сведения Кабинета, что «из сибирских инородцев, состоящих в зависимости от России, без совершенного подданства, чукчи платят дань, количество и качество которой оценивается их собственным произволом» [12] (РГИА. Ф. 1265. Оп. 10. Д. 59). Христианизация Чукотки также имела особенный характер и первые успешные ее результаты соотносимы с деятельностью священника А.И. Аргентова (1816–1896). К началу ХХ в. на полуострове действовала Чауно-Чукотская миссия, начальник которой отмечал, что лишь некоторую часть из крещенных чукчей возможно причислить к приходским храмам, а «большинство чукчей по образу жизни и безразличию к православию должны, по-прежнему, оставаться в ведении миссионеров» (Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф. 228-и. Оп. 1. Д. 537).
Таким образом, мы можем сделать вывод о зависимости роста православного населения северо-восточных окраин империи от внутренней политики государства. Деятельность Рус- ской православной церкви в Сибири по вовлечению сибирских этносов в христианство была составной частью данной политики. Административное и хозяйственно-экономическое освоение восточносибирских территории осуществлялось во взаимодействии государственных и церковных структур. Миссионерская деятельность церкви в Сибири была одновременно деятельностью государственной, направленной на инкорпорацию неславянских народов в имперскую парадигму. Обеспечение делегируемых государством временных налоговых преференций, одаривание и возможности изменения социального статуса привлекали инородцев в православие. Вместе с тем исторические источники содержат сведения о фактах повторного крещения и незначительной численности переходов новоокрещенных в оседлое (крестьянское) состояние. И несмотря на то, что к началу ХХ в. большинство представителей инородческого населения Восточной Сибири были окрещены и соотносились с православным населением, очевидна формальность христианской составляющей в повседневности кочевых и полукочевых сообществ.
Список литературы Ясачная политика и крещение «инородцев» в Восточной Сибири
- Бахрушин С.В. Ясак в Сибири в XVII в. // Сибирские огни. 1927. № 3. С. 95-129.
- Бродников А.А. Алданские события 1639 г. (к вопросу о взаимоотношениях русских служилых людей и коренного населения Якутии в первой половине XVII в.) // Казаки Урала и Сибири в ХVII-ХХ вв.. Екатеринбург, 1993. С. 46-51.
- Бродников А.А. Сбор ясака: зависимость процесса объясачивания от потестарно-полити-ческой ситуации в регионе (по материалам Восточной Сибири XVII в.) // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. Вып. 1. Культурный космос Евразии. Новосибирск, 1999. С.119-123.
- Васильев А.Д. Якутская областная администрация и организация второй ясачной комиссии (1828-1830 гг.) // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2021. № 4. С. 82-87.
- Головачев П.М. Взаимное влияние русского и инородческого населения Сибири. М., 1902.
- Горюшкин Л.М. Аграрные отношения в Сибири периода империализма (1900-1917 гг.). Новосибирск: Наука, 1976.
- Дамешек Л.М. Налоги и повинности народов Сибири в пореформенный период // Известия Иркутского государственного университета. Серия «История». 2015. Т. 11. С. 51-57.
- Дамешек Л.М. Избранное: в 3-х т. Т. 1. Сибирские «инородцы» в имперской стратегии власти (XVIII - начало ХХ вв.). Иркутск: Оттиск, 2018.
- Дамешек Л.М. Этнический фактор окраинной политики империи в региональном измерении: сибирский вариант (XVIII-ХХ вв.). Иркутск: Изд-во ИГУ, 2022.
- Дамешек Л.М., Дамешек И.Л. Механизмы финансовых отношений императорского Кабинета и сословия сибирских инородцев в эпоху империи // Вестник Томского государственного университета. История. 2022. № 78. С. 21-25.
- Дулов А.В., Санников А.П. Православная церковь в Восточной Сибири в XVII - начале ХХ вв.: в 2-х ч. Иркутск: МИОН, 2006.
- Зуев А.С. Присоединение Чукотки к России (вторая половина XVII-XVIII вв.). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009.
- Кабузан В.М. Народы России в XVIII в. Численность и этнический состав. М.: Наука, 1990.
- Окунь С.Б. Очерки по истории колониальной политики царизма в Камчатском крае. Л., 1935.
- Окладников А.П. Очерки из истории западных бурят-монголов (XVII-XVIII вв.). Л., 1937.
- Очерки историографии и источниковедения истории Сибири эпохи империи (XIX -начало ХХ вв.): учебное пособие / Под ред. Л.М. Дамешека. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2022.
- Пивоваров Б.И. Алтайская духовная миссия и миссионеры // Из духовного наследия алтайских миссионеров. Новосибирск, 1998. С.4-32.
- Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. Новосибирск, 1948.
- Софронов В.Ю. Три века сибирского миссионерства: в 3-х ч. Тобольск: ТГПИ, 2005.
- Шунков В.И. Труды С.В. Бахрушина по истории Сибири // Бахрушин С.В. Научные труды: в 4-х т. Т. 3. Ч. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 5-12.
- Юрганова И.И. Христианизация и исполнение православной обрядности на восточных окраинах Российской империи (вторая половина XVIII в.) // Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15. № 6. С. 34-43.