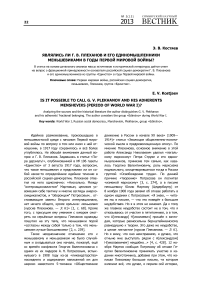Являлись ли Г. В. Плеханов и его единомышленники меньшевиками в годы Первой мировой войны?
Автор: Костяев Э.В.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 3 (13), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе детального анализа массы источников и исторической литературы даётся ответ на вопрос о фракционной принадлежности основателя российской социал-демократии Г. В. Плеханова и его единомышленников из группы «Единство» в годы Первой мировой войны.
Первая мировая война, российская социал-демократия, меньшевизм, плеханов, группа "единство"
Короткий адрес: https://sciup.org/14113811
IDR: 14113811
Текст научной статьи Являлись ли Г. В. Плеханов и его единомышленники меньшевиками в годы Первой мировой войны?
Идейное размежевание, произошедшее в меньшевистской среде с началом Первой мировой войны по вопросу о том или ином к ней отношении, в 1917 году сохранялось и всё более углублялось. Не обошёл вниманием данный вопрос и Г. В. Плеханов. Задавшись в статье «Пора дерзнуть!», опубликованной в № 106 газеты «Единство» от 3 августа 1917 года, вопросом, что такое меньшевизм и представлял ли он собой какое-то определённое идейное течение в российской социал-демократии, Плеханов ответил на него однозначно: «Нисколько. Между "интернационалистом" Мартовым, целиком усвоившим себе тактику и многие взгляды анархосиндикалистов, и "оборонцем" Потресовым… отстаивающим заветы Второго интернационала, нет ничего общего, кроме ярлычка: меньшевик (курсив Плеханова. — Э. К. )» [1, с. 68]. Кроме того, с присущим ему умением с юмором смотреть на серьёзные вопросы Плеханов однажды пошутил на эту тему, что меньшевики порой «согласны между собой только в том, что меньшевизм лучше большевизма» [2, с. 239].
Такое неоднозначное отношение его к меньшевизму и меньшевикам не было случайным и складываться оно начало, пожалуй, ещё со времён конфликта Георгия Валентиновича с одним из их лидеров А. Н. Потресовым, вспыхнувшего в 1908 году из-за «ликвидаторства» последнего и содержания написанной им для широко известного 5-томника «Общественное движение в России в начале ХХ века» (1909— 1914)» статьи «Эволюция общественно-политической мысли в предреволюционную эпоху». По мнению Плеханова, основное внимание в этой работе Александр Николаевич уделил «легальному марксизму» Петра Струве и его единомышленников, принизив тем самым, как казалось Георгию Валентиновичу, роль марксизма подпольного, олицетворявшегося тогда в России группой «Освобождение труда». По данной причине «творение» Потресова он посчитал «изменой марксизму» [3, с. 274], а в письме меньшевику Юлию Мартову (Цедербауму) от 8 ноября 1908 года заявил об отказе работать в одном издании с Потресовым: «Я знаю, — читаем мы в письме, — что это поведёт к большим неудобствам. Но я в этом не виноват. Да к тому же главное неудобство состоит не в том, что я отказываюсь от участия в пятитомнике, а в том, что А[лександр] Н[иколаевич] пришёл к взглядам, которые равносильны бернштейнианскому равнодушию к теории. Это даже не неудобство, а целое несчастие (курсив Плеханова. — Э. К.). Но я вижу, что оно неисправимо, и думаю, что отныне мне выступать рядом с А[лександром] Н[иколаевичем] неудобно…» [4, с. 428]. 12 ноября Мартов сообщил Потресову об отказе Георгия Валентиновича принимать участие в издании многотомника, добавив при этом, что написал Плеханову большое письмо, «в котором изложил всё, что думал, о морали сей истории, кроме разве того, что он вёл себя во всём этом деле, как свинья…». Произошедшее Юлий Осипович назвал трагикомедией и выразил надежду на раскаяние Плеханова, причиной поведения которого в сложившейся ситуации являлась, по мнению Мартова, «какая-то неизлечимая "болезнь великого человека"» [5, с. 88—89].
Несмотря на то, что в шедших в течение октября-декабря 1908 года переговорах с Плехановым приняли участие такие авторитетные лидеры меньшевизма, как Павел Аксельрод, Юлий Мартов, Фёдор Дан (Гурвич) и Александр Мартынов (Пиккер), спор продолжал разрастаться и углубляться. «Устраивали совместные конференции, на которых посредники пытались получить от Плеханова конкретную формулировку его обвинений против Потресова, — писал об этом меньшевистский историк Б. Николаевский. — Плеханов сам переживал конфликт в высшей степени тяжело. На одном из совещаний он упал в глубокий обморок, после которого он должен был слечь. По-видимому, он и сам искал выхода из создавшегося положения и готов был идти на компромисс во многом, но в одном он оставался непреклонен: в требовании разрыва с Потресовым. На это не пошёл никто из остальных участников переговоров. Некоторые из них находили в статье А[лександра] Н[иколаевича] ряд недочётов... но никто из них и в отдалённой степени не был согласен с оценкой этой статьи Плехановым. Принести же А[лександра] Н[иколаевича] в жертву "плехановским ультиматумам", с которыми, по существу, они были и не согласны, никто из них не считал себя вправе. В конце ноября Плеханов уже заявлял: "Если меньшевизм не хочет отмежёвываться от Потресова, я выступлю против меньшевизма"» [4, с. 428—429]. После этого он не только отказался от участия в 5-томнике, но и написал 5 января 1909 года письмо в редакцию меньшевистской газеты «Голос социал-демократа» о своём выходе из неё (по его просьбе опубликовано оно было только в мае 1909 года с отметкой, что он не принимал участия в работе редакции с декабря 1908 г.) [5, с. 222].
Кроме полемики с Потресовым, после ухода Плеханова из «Голоса социал-демократа» его нападкам подверглись и редакторы этой газеты в частности, и все меньшевики вообще. В написанной в 1910 году статье «Недреманное око т. Плеханова» меньшевик Н. Череванин (Фёдор Липкин) заметил по этому поводу с иронией, что в данной ситуации Георгий Валентинович действовал «по принципу кровной мести, который состоит в том, чтобы мстить всем родным и друзьям "обидчика", так сказать, до десятого колена, или, если угодно, подобно тому гоголевскому персонажу, который, посылая крепкие слова по адресу всех родственников и свойственников своего врага, в восходящей и нисходящей степени, не щадил даже свойственников воображаемых: "а если есть зять, то чтоб и зятю!"…». Среди прочего, Плеханов тогда заявлял в ходе полемики, что он «никогда не был близок по духу» к меньшевикам, получив после этого встречный «укол» Мартова, указавшего в вышедшей в 1910 году статье «Маленькие причины великой обиды» на «лёгкое порхание Плеханова от большевиков к меньшевикам, от последних к "не-фракционным" с[оциал]-д[емократам] и обратно». Редакция «Голоса социал-демократа» выпустила тогда, в 1910 году, специальный листок под названием «Необходимое дополнение к "Дневникам" Г. В. Плеханова», в котором её члены и сотрудники решили дать свой ответ на озвученные в «Дневниках», а также брошюре «О моём "секрете"» «личные нападки, инсинуации и немотивированные обвинения в "ликвидаторстве" и "ревизионизме"» [6] со стороны Плеханова в их адрес.
При этом редакторы «Голоса социал-демократа» всячески подчёркивали, что для меньшевиков потеря Плеханова невелика и они её вполне способны пережить. Вот что, к примеру, писал на этот счёт Мартов в статье «Маленькие причины великой обиды»: «Меньшевизм — это европейский социал-демократизм, и его торжество в русском рабочем движении обеспечено всем ходом социального развития России, непрерывность его развития обеспечена наличностью прочного слоя рабочих-марксистов, достаточно политически самостоятельных, чтобы не быть смущёнными "поворотами" тех или других "вождей". Тридцатилетняя деятельность Г. В. Плеханова, как пропагандиста марксизма; его пятилетняя деятельность пропагандиста тактических воззрений меньшевиков много способствовали выработке такого слоя рабочих. Вот почему я, чтобы поддержать в глазах Плеханова свою репутацию человека, всегда и ко всему "снисходительного", закончу выражением нашей общей благодарности Плеханову за то, что он помог передовым русским рабочим достичь той ступени, на которой они могут позволить себе роскошь сознавать себя правыми "по Марксу" даже и против Плеханова (курсив Мартова. — Э. К.)». Несмотря на обилие критических стрел в адрес Плеханова, члены редакции «Голоса социал-демократа» всё же дружно признавали на страницах своего листка его огромную роль и авто- ритет в российском социалистическом движении. Так, А. Мартынов в статье «В поисках за принципиальностью» назвал его «основателем социал-демократии», а П. Аксельрод в своём «Вынужденном объяснении» — «теоретическим главой русской социал-демократии». Речь в этом листке, говорилось в редакционной статье «Печальный рецидив», шла о человеке, у которого российские социал-демократы «учились принципиальности, о человеке, заложившем идейный фундамент, на котором построено здание русской социал-демократии». Тем не менее вывод статьи был неутешительным для Георгия Валентиновича. «"Меньшевизм", т. е. революционный марксизм на той стадии развития, когда и в России начали создаваться условия для построения с[оциал]-д[емократической] тактики на основе массового рабочего движения, — читаем мы в ней, — родился без Плеханова, пережил без него многие трудные минуты, переживёт и эту» [6].
В связи с этим нельзя обойти вниманием вопрос, по которому в исторической литературе не существует единой точки зрения: какое место занимали в рассматриваемый период Плеханов и его единомышленники по группе «Единство» — внутри или вне меньшевизма? Ответы на данный вопрос давались и даются совершенно разные.
Одни исследователи уверенно относили и относят плехановцев к крайне правому, оборонческому течению внутри меньшевизма [7]. Некоторые из них приводили пространные аргументы для доказательства правоты своих суждений. Так, меньшевистский историк Григорий Аронсон причислял Плеханова и его «Единство» к группировкам правых меньшевиков, которые никогда не признавали официальных партийных инстанций, поскольку не разделяли проводимого ими политического курса. Вместе с тем, особо подчёркивал Аронсон, такие группировки «неизменно считали себя принадлежащими не только к меньшевистскому направлению в социал-демократии, но и к РСДРП, дорожили фирмой партии… и этот партийный патриотизм в течение долгих лет самостоятельного организационного существования не уменьшался. Все группировки правых меньшевиков, независимо от своих взаимоотношений с официальными инстанциями РСДРП, принадлежат истории меньшевизма» [2, с. 176], — резюмировал свои размышления на эту тему Аронсон.
Другие авторы с не меньшей уверенностью заявляли и продолжают заявлять, что в 1917— 1918 гг. Плеханов и его соратники находились вне рядов меньшевизма [8]. Меньшевик Влади- мир Левицкий (Цедербаум) писал по этому поводу, что Плеханов «никогда не являл собой распространённого у нас в России типа фракционера-сектанта», «всегда горячо отстаивал необходимость единства (курсив Левицкого. — Э. К.) партии и рабочего движения и, поскольку это от него зависело, готов был ради него идти на компромисс с инакомыслящими», однако, по иронии судьбы, «когда во время революции 1917—1918 гг. от социал-демократии отделилась, наконец, всё время висевшая на ней мёртвым грузом ленинская коммунистическая, а в сущности, анархическая фракция и у нас образовалась единая р[оссийская] с[оциал]-д[емо-кратическая] р[абочая] партия, Плеханов, её основатель и вождь, оказался, увы, вне её рядов» [9, с. 8]. А меньшевик Лев Ланде для доказательства своей точки зрения указывал на тот факт, что Центральное бюро по созыву Объединительного съезда РСДРП, состоявшегося в августе 1917 года, «пригласивши на съезд "всех" социал-демократов, будь то меньшевики, большевики, оборонцы или интернационалисты, не включило плехановское "Единство" в число организаций, приглашённых на съезд» [10].
Когда меньшевичка Татьяна Вулих встретила однажды в трамвае, по дороге на очередное заседание Объединительного съезда, Потресова и они заговорили об этом, он был «и возмущён, и огорчён». «На мой вопрос, почему оборонцы не подымут этого вопроса на самом съезде, — вспоминала Вулих, — А[лександр] Н[иколаевич] ответил, что он сам уже об этом думал, но уверен, что большинство съезда не только отклонит это предложение, но и сопроводит свой отказ соответствующей аттестацией Плеханова. Лучше уже, мол, оставить так. Самый факт публичного отказа будет не только лишним оскорблением для Плеханова, но и скандалом для партии». А когда Вулих рассказала об этом разговоре давней единомышленнице Георгия Валентиновича Засулич, Вера Ивановна была вынуждена признать правоту Потресова [11].
В середине сентября 1917 года Вулих застала Засулич в раздумьях над предложением Плеханова войти в группу «Единство». «На мои слова, что это будет для неё прекрасно, что я очень рада за неё, раз что она всецело разделяет позицию Плеханова и считает необходимым публично бороться со всё возрастающим влиянием в партии интернационалистов, она должна его поддержать, тем более, что Плеханов одинок, она ответила: "Всё это так, и не будь этих соображений, я бы не раздумывала, а просто отказалась. Но ведь принять приглаше- ние — это значит порвать с партией, окончательно уйти из неё. Положим, Плеханов неплохая компания, но ведь он не один, а окружён другими, и кто с ним? Алексинский, Иорданский — это мразь. Бедный Жорж (Плеханов. — Э. К.), с кем ему приходится работать, а расстаться с ними он не захочет — у него нет людей". Помню, что меня очень удивил, — вспоминала Вулих, — такой резкий отзыв о союзниках Плеханова, особенно неожиданно это было для меня по адресу Иорданского. О нём тогда ещё никто, кажется, так строго не говорил. В тот вечер В[ера] И[вановна] была очень оживлена и радостно настроена. По-видимому, признание её полезности со стороны Плеханова было ей приятно и радовала перспектива работы». И, действительно, через некоторое время, уже находясь в Тифлисе, от местных плеханов-цев Вулих узнала, что Засулич всё же вступила в группу «Единство», пойдя таким образом на «разрыв с партией» [11].
Есть также исследователи, которые считают более правильным не занимать какую-либо однозначную позицию по данному вопросу, предпочитая крайностям определённый компромисс. Так, например, меньшевистский историк Давид Далин (Левин) полагал, что группа «Единство» стояла «вне партийной организации», но всё же занимала «самую крайнюю в известном смысле позицию на правом фланге меньшевизма» [12, с. 149]. А. Корников же считает возглавлявшуюся Плехановым группу частью не собственно меньшевистской партии, как некоего организационного целого, а включает её в более широкое понятие «меньшевистское движение» [13, с. 67].
Чтобы найти правильный ответ на вопрос о фракционной принадлежности Плеханова и его единомышленников из «Единства» в 1917— 1918 гг., вернее всего снова обратиться к работам самого основателя российской социал-демократии. Затронув эту тему в статье «Партия, или только фракция?», опубликованной в «Единстве» 13 июля 1917 года, Георгий Валентинович предлагал читателям вернуться к событиям 16—17 июля 1914 года в Брюсселе. Там, напомним, по инициативе Международного социалистического бюро (МСБ) Второго Интернационала состоялось совещание всех социал-демократических течений и национальных социал-демократических организаций России, большинство участников которого признало необходимым преодоление приносившей большой вред освободительному движению внутрипартийной фракционной борьбы и скорейшее вос- становление единой РСДРП, подписав соответствующую резолюцию [14, с. 347—350, 496]. Дальнейшие шаги к объединению должны были быть сделаны спустя 3 недели на очередном конгрессе Интернационала в Вене, но, по иронии судьбы, через 2 недели после объединительного совещания началась Первая мировая война, помешавшая созыву конгресса.
Так вот членом той объединённой РСДРП, восстановление которой планировалось, но не состоялось по причине развязывания мировой войны, и называл себя Плеханов в 1917 году. «Война помешала созыву съезда, — писал он в указанной статье, — но она никоим образом не поставила меня и моих ближайших товарищей за те пределы будущей нашей партии (курсив Плеханова. — Э. К. ), которые начертаны были Брюссельской Конференцией» [1, с. 36]. Когда выехавший навстречу возвращавшемуся в Россию Плеханову Николай Иорданский подал ему первые номера газеты «Единство», Георгий Валентинович был очень доволен её названием, за которым скрывался смысл, окрасивший всю историю его партийной деятельности и борьбы со времени II съезда РСДРП.
Попыткам реализации идеи объединения партии он посвятил значительную часть своих сил. «С 1903 года, — писала об этом Розалия Плеханова, — …до Февральской революции 1917 года Плеханов… был охвачен "одной лишь думы властью, одной лишь пламенною страстью" — это объединением партии… В речах и статьях, на конгрессах партии и в Интернационале он стремился к одному: заставить большевиков отказаться от анархически-бланкистских теорий и методов, а "меньшевиков" — от их тенденций, их реакции по отношению к большевикам: перегнуть палку в другую сторону и сделаться партией реформы. Он учил обе стороны мыслить и действовать по-марксистски. Он всегда говорил, что он не большевик и не меньшевик, он марксист» [15, с. 82]. Что же касается меньшевиков, то их Плеханов считал всего лишь одной из фракций внутри РСДРП [1, с. 35]. И от позиции этой фракции в 1917 году он старался как можно далее дистанцироваться. «Позиция меньшевиков — вредная, — говорил Плеханов. — Они не желают видеть, что Россия гибнет, а "Единцы" это видят, понимают, чувствуют. Это уже делает их на голову выше меньшевиков. По отношению к меньшевикам я оказался в печальном положении… вроде курицы, которая вывела утят, поплывших от неё по болоту» [16, с. 185].
В приведённых выше цитатах и кроется, пожалуй, ответ на дискуссионный вопрос о фракционной принадлежности. Плеханов не был в рассматриваемый период ни меньшевиком, ни большевиком, находясь вне фракций, точнее говоря, над фракциями, у истоков основания каждой из которых он в своё время находился. Первый российский марксист, «отец русской революционной социал-демократии» и автор программы РСДРП, «человек, у которого русские социал-демократы учились принципиальности», «заложивший идейный фундамент, на котором построено здание русской социал-демократии» [6], всегда имевший своё собственное мнение по всем серьёзным политическим вопросам, был выше фракционных раздоров внутри партии. Характеризуя однажды свою группу «Единство», само название которой говорит о многом, он подчёркивал, что эта организация «в своей деятельности всегда остаётся чуждой духу секты и всегда пренебрегает доктринёрством».
Плеханов осуждал раскол социал-демократической партии, «виртуальными» членами которой называл себя и своих единомышленников из «Единства», мечтая в будущем, преодолев дух фракционности, создать «единую и нераздельную» РСДРП без большевиков и меньшевиков [17]. Таким образом, было бы принципиально неправильным причислять его к какой-либо внутрипартийной фракции или течению. О Плеханове можно говорить только как о совершенно самостоятельной единице внутри РСДРП, причём не только в 1917—1918 гг., но и на других этапах существования партии.
И, наконец, когда однажды среди ближайших товарищей Плеханова речь зашла о том, что меньшевики, созывавшие партийную конференцию, не считали его членом партии, Георгий Валентинович заявил: «Не считают? Может быть. Но меня нельзя отставить от партии, скорее партию можно отставить от меня, как академию от Ломоносова» [18].
-
1. Плеханов Г. В. Год на Родине. Полное собрание статей и речей 1917—1918 гг. : в 2 т. Т. 2. Париж, 1921.
-
2. Цит. по: Аронсон Г. К истории правого течения среди меньшевиков // Меньшевики после Октябрьской революции. Сборник статей и воспоминаний Б. Николаевского, С. Волина, Г. Аронсона / ред.-сост. Ю. Г. Фельштинский. Benson, 1990.
-
3. Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода. Т. 2. М., 1925.
-
4. Цит. по: Николаевский Б. А. Н. Потресов. Опыт литературно-политической биографии // Потре-сов А. Н. Избранное. М., 2002.
-
5. Цит. по: Урилов И. Х. История российской социал-демократии (меньшевизма). Ч. 4. Становление партии. М., 2008.
-
6. Hoover Institution Archives, Boris I. Nicolaevsky collection, Series 279. Box 662. Folder 10.
-
7. См., напр.: Вардин Ил. Эпоха войн и революций. М.—Л., 1925. С. 51—52; Аронсон Г. Указ. соч. С. 176, 183, 244; Галили З., Ненароков А. Кризис коалиционной политики и усиление центробежных тенденций в меньшевистской партии. Июль-август. Документально-исторический очерк // Меньшевики в 1917 году : в 3 т. / под общ. ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона. Т. 2. Меньшевики в 1917 году: от июльских событий до корниловского мятежа. М., 1995. С. 49 и др.
-
8. См., напр.: Суханов Н. Н. Записки о революции : в 3 т. Т. 3. Кн. 5, 6, 7. М., 1992. С. 71; Ланде Л. Состояние партийной организации к моменту октябрьского переворота // Меньшевики / сост. Ю. Г. Фельштинский. Benson, 1988. С. 79; Тютю-кин С. Плеханов // Политические партии России. Конец ХIХ — первая треть ХХ века : Энцикл. М., 1996. С. 461 и др.
-
9. Левицкий В . Отец российской социал-демократии // Дело. 1918. 26 (13) июня. № 11—12.
-
10. Ланде Л. Указ. соч. С. 79. Несмотря на это, сторонники Плеханова на съезде всё же были представлены. В частности, делегат от Витебска Арон Гинзбург, указывая в опросном листе свою фракционную принадлежность, написал: «пле-хановец» (Меньшевики в 1917 году. Т. 2. С. 604).
-
11. См.: Вулих Т. И. В. И. Засулич // Hoover Institution Archives, Boris I. Nicolaevsky collection, Series 134. Box 207. Folder 13.
-
12. Далин Д. Меньшевизм в период советской власти // Меньшевики : сб. ст. Benson, 1988. С. 140—174.
-
13. Корников А. А. Судьба российского революционера: Н. Н. Суханов — человек, политик, мемуарист. Иваново, 1995.
-
14. См.: Меньшевики. Документы и материалы. 1903 — февраль 1917 гг. М., 1996.
-
15. Год на Родине. Из воспоминаний Розалии Плехановой // Диалог. 1991. № 12.
-
16. Валентинов Н. В. Беседы с Плехановым в августе 1917 г. // Валентинов Н. В. Наследники Ленина / ред.-сост. Ю. Г. Фельштинский. М., 1991.
-
17. См.: Плеханов Г. В. Год на Родине. Т. 1. С. 224, 225, 226; Т. 2. С. 36.
-
18. Браиловский А. Г. В. Плеханов в русской революции (из воспоминаний) // Hoover Institution Archives, Boris I. Nicolaevsky collection, Series 130. Box 201. Folder 4.
Список литературы Являлись ли Г. В. Плеханов и его единомышленники меньшевиками в годы Первой мировой войны?
- Плеханов Г. В. Год на Родине. Полное собрание статей и речей 1917-1918 гг.: в 2 т. Т. 2. Париж, 1921.
- Аронсон Г К истории правого течения среди меньшевиков//Меньшевики после Октябрьской революции. Сборник статей и воспоминаний Б. Николаевского, С. Волина, Г. Аронсона/ред.-сост. Ю. Г. Фельштинский. Benson, 1990.
- Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода. Т. 2. М., 1925.
- Николаевский Б. А. Н. Потресов. Опыт литературно-политической биографии//Потресов А. Н. Избранное. М., 2002.
- Урилов И. Х. История российской социал-демократии (меньшевизма). Ч. 4. Становление партии. М., 2008.
- Hoover Institution Archives, Boris I. Nicolaevsky collection, Series 279. Box 662. Folder 10.
- Вардин Ил. Эпоха войн и революций. М.-Л., 1925. С. 51-52;
- Суханов Н. Н.Записки о революции: в 3 т. Т. 3. Кн. 5, 6, 7. М., 1992. С. 71
- Ланде Л. Состояние партийной организации к моменту октябрьского переворота//Меньшевики/сост. Ю. Г. Фельштинский. Benson, 1988. С. 79
- Тютюкин С. Плеханов//Политические партии России. Конец ХIХ -первая треть ХХ века: Энцикл. М., 1996. С. 461 и др
- Левицкий В. Отец российской социал-демократии//Дело. 1918. 26 (13) июня. № 11-12.
- Ланде Л. Указ. соч. С. 79. Несмотря на это, сторонники Плеханова на съезде всё же были представлены. В частности, делегат от Витебска Арон Гинзбург, указывая в опросном листе свою фракционную принадлежность, написал: «пле-хановец» (Меньшевики в 1917 году. Т. 2. С. 604).
- Вулих Т.И. В. И. Засулич//Hoover Institution Archives, Boris I. Nicolaevsky collection, Series 134. Box 207. Folder 13
- Далин Д. Меньшевизм в период советской власти//Меньшевики: сб. ст. Benson, 1988. С. 140-174.
- Корников А. А. Судьба российского революционера: Н. Н. Суханов -человек, политик, мемуарист. Иваново, 1995.
- Меньшевики. Документы и материалы. 1903 -февраль 1917 гг. М., 1996
- Год на Родине. Из воспоминаний Розалии Плехановой//Диалог. 1991. № 12.
- Валентинов Н. В. Беседы с Плехановым в августе 1917 г.//Валентинов Н. В. Наследники Ленина/ред.-сост. Ю. Г. Фельштинский. М., 1991.
- Плеханов Г. В. Год на Родине. Т. 1. С. 224, 225, 226; Т. 2. С. 36
- Браиловский А. Г. В. Плеханов в русской революции (из воспоминаний)//Hoover Institution Archives, Boris I. Nicolaevsky collection, Series 130. Box 201. Folder 4
- Аронсон Г. Указ. соч. С. 176, 183, 244;
- Галили З., Ненароков А. Кризис коалиционной политики и усиление центробежных тенденций в меньшевистской партии. Июль-август. Документально-исторический очерк//Меньшевики в 1917 году: в 3 т./под общ. ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона. Т. 2. Меньшевики в 1917 году: от июльских событий до корниловского мятежа. М., 1995. С. 49 и др.