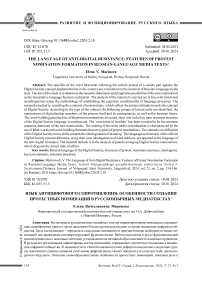Язык антицифрового сопротивления: особенности создания протестных номинаций в русскоязычных медиатекстах
Автор: Маринова Е.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
На материале русскоязычных медийных текстов охарактеризованы номинации, отражающие своеобразный протест части населения России против реализации в стране концепции цифрового общества. Цель исследования – определить смысловые доминанты и прагматические особенности новых номинаций как проявление интерпретирующий функции языка. Работа выполнена в русле функциональной социолингвистики с помощью методики установления когнитивной обусловленности языковых процессов. В результате исследования зафиксирован состав номинаций, отражающих протестное отношение к концепции цифрового общества. В зависимости от типа обозначенного ими референта выделены следующие группы лексических единиц: названия участников цифровизации; самого процесса и его последствий; прогнозируемого будущего. Описаны словообразовательные особенности протестных номинаций, показана роль в их структуре ключевых терминоэлементов языка цифрового общества (цифровой, цифро-). В качестве общей смысловой доминанты новообразований установлена сема 'ограничение свободы'. Обнаружено, что в создании рассматриваемых единиц использованы характерные для протестных номинаций слова-ярлыки и словообразовательные форманты. Определено, что семантическое преобразование терминов цифрового общества осуществляется в направлении идеологизации значения. Языку антицифрового сопротивления противопоставлены язык и риторика сторонников официальной концепции развития цифрового общества, имеющих свои идеологемы и ярлыки. Перспективы исследования видятся в изучении ложно ориентирующих номинаций в языке цифрового общества.
Русский язык цифрового общества, протестный дискурс, процесс номинации, идеологема, ключевые терминоэлементы, смысловая доминанта
Короткий адрес: https://sciup.org/149145974
IDR: 149145974 | УДК: 81’42:070 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.2.10
Текст научной статьи Язык антицифрового сопротивления: особенности создания протестных номинаций в русскоязычных медиатекстах
DOI:
Слово антицифровой в словарях русского языка пока не зафиксировано. Оно не используется ни в официальных документах, связанных с происходящей в России цифровизацией, ни в текстах федеральных и региональных СМИ, освещающих этот процесс. Однако, изучая формирующийся в настоящее время язык, обслуживающий реализацию в стране идеи цифрового общества (далее – ЦО), мы обратили внимание на предельно широкую сочетаемость ключевого слова этого языка – прилагательного цифровой , а также на его неузуальные дериваты, представленные в разных дискурсах: доцифровой (об эпохе), био-цифровой , цифрометрия – в медийном, циф-ролюция – в научно-популярном, цифропока-липсис – в художественном, цифровенькие (иронично о новых технологиях) – в сетевом. Возникло предположение, что есть и другие производные от этого актуального, можно сказать, модного сегодня слова, например * ан-тицифровой . В подтверждение гипотезы мы обнаружили это производное слово (в сочетаниях со словами катехизис , мир , прорыв ) на сайтах различных православных онлайн-изда-ний и информагентств.
Встретилось оно и в названии научной статьи религиоведов Б.К. Кнорре и А.А. Мурашовой «“В начале было Слово...”, а в конце будет число? Православие и антицифровой протест в России: с 1990-х до коронавируса» [Кнорре, Мурашова, 2021]. Авторы статьи использовали, наряду со словом антицифро-вой, его дериват – антицифровики (о противниках цифровизации). Эти факты дали ос- нование включить в название нашей статьи прилагательное антицифровой без кавычек.
Согласно исследованию Б.К. Кнорре и А.А. Мурашовой, противостояние процессу цифровизации в российском обществе началось уже в 90-е гг. XX в., то есть на заре цифровизации [Кнорре, Мурашова, 2021, с. 147]. Оно зародилось в среде верующих, воцерков-ленных людей, а его идеологами стали православные фундаменталисты, религиозные философы и проповедники, объяснявшие не только верующим, «своим», но и самой широкой публике причины неприятия Русской православной церковью некоторых новшеств надвигающейся цифровой эпохи, таких как идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), штрихкод [Кнорре, Мурашова, 2021, с. 147]. Авторы статьи отмечают и новый всплеск антицифрового протеста в связи с запретами на посещение богослужений в пандемию 2020 года. Хотя лингвистическая составляющая антицифрового протеста в их статье не рассматривается (упоминаются лишь отдельные номинации типа печать Антихриста – об ИНН, проштрихованный гражданин ), авторы делают вывод о том, что «в ходе развития собственного правозащитного языка... происходит демаргинализация АП (анти-цифрового протеста. – Е. М. )» [Кнорре, Мурашова, 2021, с. 159].
Наше исследование посвящено изучению специфических номинаций, создаваемых участниками антицифрового дискурса. Именно в процессе вербального кодирования актуальных, значимых для говорящего реалий, в процессе стихийного словотворчества актуализируется интерпретирующая функция язы- ка. С одной стороны, создаваемая номинация уже фактом своего появления выделяет объект, который она обозначает; с другой – она этот объект оценивает, тем самым выражая информацию об отношении к объекту говорящего. Цель исследования – в массиве неузуальных номинаций гомогенного с точки зрения идеологии дискурса определить общие смыслы, которые они выражают, и прагматические особенности.
Материал и методы
Источником для сбора материала послужил сервис «Архив СМИ» (1996–2023 гг.) электронного медиабанка «Интегрум». В качестве поискового запроса использовались ключевые терминоэлементы, участвующие в формировании терминологии ЦО, прежде всего прилагательное цифровой и его усеченный вариант – цифро -. В результате поиска среди исчисляемых тысячами документов были обнаружены не только терминологические сочетания типа цифровая безопасность , цифровой суверенитет и т. п. (всего более 230 единиц), но и номинации, семантика которых отражает неприятие «цифровой трансформации мира», критическое отношение к этому процессу ( циф-рократия , цифровой контроль ).
По структуре обнаруженные номинации являются либо однословными, либо составными. По критерию частотности выделяются номинации единичного, «разового» употребления (собственно окказионализмы – рас-человечиватели , цифроволки ) и номинации воспроизводимые, претендующие таким образом на статус узуальной единицы, однако не имеющие терминологического характера в силу эксплицитно выраженной резко отрицательной оценочности ( цифровой концлагерь ). Было обнаружено свыше 100 «протестных» номинаций, включая и самоназвания их авторов – борцы с цифровизацией , циф-роскептики .
Анализ собранного материала выполнен в русле функциональной социолингвистики с применением методики установления когнитивной обусловленности языковых процессов: создание неузуальных номинаций изучалось посредством выявления связи между их структурно-семантическими свойствами и основны- ми процессами познания и интерпретации мира – концептуализацией, категоризацией, оценкой (подробно о них см.: [Болдырев, 2016]), что позволило выявить общую смысловую доминанту номинативных единиц, относящихся к антицифровому дискурсу. Использовались также приемы контекстного (лингвоидеологический) и компонентного анализа.
Исследовательские шаги в ходе описания материала были следующими:
– классификация номинаций по их соотнесенности с тем или иным референтом и определение количественного соотношения между номинациями обнаруженных групп, целью чего было установление значимого для протестного сознания объекта номинирования;
– анализ номинаций в аспекте их структуры, выбора производящей базы, семантики, способа словообразования (для однословных единиц) с целью описания характерных особенностей протестных номинаций;
– выявление общих сем и прагматического своеобразия новообразований для их лингвоидеологического комментария.
Результаты и обсуждение
В современном русскоязычном дискурсе формируется языковая среда, отражающая критическое отношение некоторых жителей России к официально принятому правительством страны курсу на всеобщую цифровизацию. Этот процесс, отчасти стихийный, проходит параллельно с целенаправленным созданием в официальном дискусе терминологии ЦО. В обоих случаях используются общие ключевые элементы языка ЦО ( цифровой , цифро- ). На фоне формального сходства протестных и официальных номинаций одних и тех же современных реалий более заметным становится идеологический контраст между сторонниками и противниками цифровизации.
Обнаруженные с помощью сервиса «Архив СМИ» источники антицифрового контента представляют собой официальные сайты различных политических и общественных организаций, информагентства, коллективные блоги, новостные сайты, интернет-СМИ, он-лайн-передачи. Ни один из источников, кроме телеканала (далее – ТК) «Спас», не позицио- нирует себя как православное СМИ. Авторы протестных материалов выражают критическое отношение к цифровизации в самых разных сферах ее реализации: образование, экономика, юриспруденция, культура и искусство, сфера госуслуг, строительство, медицина, спорт, сельское хозяйство и др., что свидетельствует о выходе антицифрового протеста за рамки православного дискурса.
Излагая свои взгляды, идущие вразрез с официальной линией государства, авторы протестных материалов используют типичные языковые средства идеологизированного дискурса, к которым относятся и новообразования разной степени окказиональности. Объекты, которые они номинируют, характеризуются неодинаковым составом: наименования участников цифровизации, самого процесса и его последствий, номинации тревожного будущего; доминирующая сема обнаруженных наименований – ‘ограничение свободы’. Однословные номинации (около 30 % от общего количества собранных единиц) в подавляющем большинстве (88 %) образованы посредством аффиксоида-ции, в остальных случаях – суффиксации (11,2 %), заменительной деривации – 0,5 %, сложения – 0,2 %, контаминации – 0,1 %.
Основными принципами создания протестных номинаций являются оценочное (пейоративное) переименование, генерализация, доминирование интерпретирующей, а не номинативной функции. Характерные производящие идеологемы (слова-ярлыки и словообразовательные маркеры «идеологической инородности») представляют собой прагматически заряженные номинативные и деривационные средства идеологизации медийного дискурса в целом.
Использование ключевых слов языка ЦО ( цифровой , цифровизация , цифра ) в качестве строевого материала для номинаций, обслуживающих идеологизированный дискурс, создает условия для дальнейшего изменения их семантики – приращения смысла за счет идеологического компонента.
Далее охарактеризуем создаваемые в медиатекстах протестные номинации в соответствии с типом объекта , который они обозначают (лицо, процесс, прогнозируемое будущее), и с учетом тех принципов, которые охарактеризованы выше.
Наименования лица
Наиболее представлены в выборке протестные номинации (54 % от общего количества), обозначающие сторонников цифровизации, ее активных ( цифроволки ) или (реже) пассивных участников ( цифроиваны ). Устойчивых различий в создании номинаций активных и пассивных участников процесса цифровизации не обнаружено. Судя по нашим материалам, деление на «активных» и «пассивных» наметилось в антицифровом дискурсе, видимо, во время режима ограничений, вызванных пандемией 2020 года. Ср.:
-
(1) Как цифроолигархи разбогатели на коро-набесии уже все в курсе? (Здесь и далее орфография и пунктуация источников сохранены. – Е. М. ) (Континенталистъ. 07.01.2021);
-
(2) Идет большой мировой, а также и внутренний передел в России... А уж сколько будет ко-видных или иных волн, которые позволят ковидизи-ровать население в цифровых пленников и рабов (Akcenty.info. 25.07.2020).
Активность в создании номинаций лица объясняется типическими характеристиками идеологического дискурса. К одной из них относится выраженная оппозиция «свои – чужие», чему посвящена обширная литература (см., например: [Шейгал, 2004; Чудинов, 2007; Чапаева, 2010; и др.]). Для продвижения какой-либо идеи ее автору всегда важно представлять возражения явных или скрытых оппонентов, так называемый «образ врага», в то же время, как пишет Е.И. Шейгал, значима и консолидация со «своими», которой способствует не только наличие общей идеи, общего понятийного поля у единомышленников, но и наличие общих лингвистических идеологем как знаков интеграции [Шейгал, 2004, с. 119].
Противники цифровизации «чужими» считают прежде всего представителей власти и бизнеса – агентов цифровизации. Для их обозначения обычно используют суффиксальный дериват слова цифровизация – цифровиза-торы (вариант: цифроизаторы ). Номинация не является официальным названием и употребляется только в протестном дискурсе, всегда неодобрительно:
-
(3) Любопытная деталь: QR-код на корове в фильме – переход на твиттер Рогозина, главы Рос-
комоса. В его компании явно не хватает еще Грефа, тоже из секты цифровизаторов ... (Сельский час. 24.11.2020);
-
(4) Согласно пожеланиям Всемирного банка (чьи идеи и внедряют цифроизаторы в наше образование), в школах будет собираться информация... о «социально-эмоциональных навыках, личностных и поведенческих установках...» (Родительское Всероссийское Сопротивление (rvs.su). 11.01.2021).
Реже используются (тоже с негативной окраской) суффиксальные дериваты, например цифровики , оцифровщики , составная номинация цифровые трансформаторы и сложение глобоцифровизаторы :
-
(5) Пряник за уничтожение собственной профессии: в регионах учреждают премии учителям- оцифровщикам образования (Геополитическая блог-платформа. 09.02.2021);
-
(6) Цифровые трансформаторы борются не с какой-то бюрократией и отсталостью, как они нам рассказывают, а с самой природой человека (РИА Катюша. 15.12. 2022).
Зафиксированы многочисленные номинации, создаваемые по общей модели: аффиксо-ид цифро - (усечение от цифровой ) + личное существительное (например, цифрофашис-ты ), вариантами которых нередко выступают составные обозначения с полным прилагательным: цифровые фашисты . Номинации с циф-ро- имеют более яркую пейоративную окраску по сравнению со словами цифровизаторы , цифровики , оцифровщики . Она создается за счет прагматического потенциала производящих субстантивов: последние представляют собой слова-ярлыки, типичные для любого идеологического или идеологизированного дискурса, см. зафиксированные в «Словаре современных политических ярлыков» единицы: глобалисты , изменники , сектанты , трансгуманисты , фашисты и т. п. (Сковородников, Копни-на). Главное их назначение – указать на «идеологическую инородность», а не обозначить реальные признаки референтов [Шейгал, 2004, с. 123]. Например:
-
(7) Почему-то один из главных цифроизмен-ников нашей Родины не понимает одну простую истину: прибыль с продажи персональных данных в несколько раз перекрывает возможные штрафы (КПРФ.ru. 19.01.2023);
-
(8) Идея перевести всех на безналичный расчет у цифрофашистов бродит постоянно, и это лишний раз свидетельствует о кризисе в нашей экономике (NewsTes.ru. 02.06.2017);
-
(9) Цифролоббисты из «Единой России» разрабатывают законопроект о биометрической идентификации новорожденных и малолетних детей (Наша Планета. Мир вокруг нас. 30.12.2018).
Самым частотным словом, образованным по данной модели, является существительное цифросектанты . По-видимому, это не случайно: «чужие» интерпретируются противниками цифровизации как секта (см. пример (3)), интересы которой на самом деле расходятся с интересами (ценностями, традициями) большинства. Приведем несколько иллюстраций:
-
(10) Главной «целью» РФ... является цифровая трансформация страны, т.е. то, чем в последние годы занимается Герман Греф и прочие цифросек-танты (Континенталистъ. 03.02.2023);
-
(11) Вот так отлично выживают цифросектан-ты во власти... (Русский Дозор. 26.01.2023).
«Чужие» осмысливаются в большинстве случаев как некое неопределенное множество субъектов, занимающихся неприемлемой с позиции автора протестного материала деятельностью. Отсюда – доминирующее использование номинаций лица в форме множественного числа (принцип генерализации 2), причем такие новообразования, как правило, метафоричны. См. примеры выше, а также:
-
(12) ЕПГУ по замыслу цифрочиновников должен стать центром взаимодействия гражданина с государством... (КПРФ.ru. 21.12.2022);
-
(13) Вот цифронаркоманы ликуют от возможностей цифроидола (об искусственном интеллекте. – Е. М. ) (Топ-50 – рейтинг постов в блогах рунета. 19.12.2022);
-
(14) Вы поняли, какие позиции и трансформации приготовили для вас цифрозные чиновники ? (ИТ новости. 21.06.2022);
-
(15) Не верьте цифробесам : российское ПО передает ваши данные за рубеж (Politforums.ru. 03.04.2021).
Однако возможны и более «адресные» номинации, объектом которых являются конкретные представители власти, например:
-
(16) Эта модель перекочевала в нацпрограм-му «Цифровая экономика», и теперь ее официально двигает цифропремьер Мишустин (Континента-листъ. 22.02.2023);
-
(17) Чтобы придать себе вес, Людмила Григорьевна пригласила на совещание еще и цифроми-нистра областного правительства Снегирева... (Другая Тверь. 14.03.2023);
-
(18) Через педсоветы (местами – не такие публичные и пафосные, как в Вологодской области, для которой записал выступление сам министр циф-ропросвещения Кравцов) власти региона обрабатывают мозги руководства школ... (РИА Катюша. 22.08.2022).
Использование в контекстах, связанных с официальной информацией, неофициальных номинаций (принцип переименования), безусловно, понижает статус референта. Такую прагматическую функцию («понижение в ранге») формант цифро - выполняет и в других номинациях, выступающих в протестном дискурсе в роли стилистически сниженных вариантов официальных названий; ср.: цифровое правительство и цифроправительство , цифровое образование и цифрообразование , цифровой рубль и цифрорубль и др .
Наименования процесса
Официальное название процесса, против которого направлены обследуемые нами протестные материалы, – цифровизация . Уже в 90-е гг. ХХ в. этот термин использовали не только как техницизм, обозначающий переход с аналогового способа обработки информации на цифровой, то есть оцифровку, оцифровывание, но и, судя по примерам в НСЗ, слово общественнополитической лексики, именующее внедрение новых технологий во все сферы общественной жизни человека (НСЗ, с. 1265).
В протестном дискурсе отрицательнооценочные номинации получает и сам процесс цифровизации, и разнообразные его последствия (например, в сфере образования, права, сельского хозяйства, юриспруденции и др.):
-
(19) Наверно, в первый момент действительно поперхнулся бы (о К.Д. Ушинском. – Е. М. ), услышав как министр с помощником пытаются притянуть за уши его педагогическое наследие для оправдания цифроразрушения системы образования России (ИТ новости. 05.03.2023);
-
(20) Название всему этому придумал русский писатель Валентин Курбатов – цифроз (VIPvideoСlub.ru. 23.02.2021);
-
(21) Эпоха цифробесия : Глобальный Паников-ский (Континенталистъ. 07.01.2021);
-
(22) Ноосферный человейник конечный этап глобализации? ... Цифрофрения все более вытесняет аналоговое мышление... (Перемены. 04.03.2023).
В этих и подобных им неофициальных названиях процесса цифровизации задействованы типичные для протестного дискурса модели с формантами -бесие , -френия , -безумие , например, в лексиконе ковид-диссиден-тов – вакцинобесие , маскобесие , коронаф-рения , ковидобезумие . Можно заметить, что в составе окказиональных новообразований эти форманты выражают общую сему ‘чрезмерная активность, увлеченность, вызванные психическим расстройством’:
-
(23) Сегодня в обозначившейся тенденции радикальной трансформации правовой ткани общества в судорогах цифролюционного экстаза частный нотариат – последняя гарантия вменяемого гражданского оборота (Говорит нотариат. 22.02.2023).
Так, с помощью метафоры болезни, одной из самых распространенных в политическом дискурсе [Чудинов, 2007] и характерных для протестного дискурса [Маринова, 2022а], подчеркивается ненормальность происходящих событий (ср. также: цифроз – психоз , цифроидальное ( общество ) – параноидальное ) и проявляется отрицательная оценка, причем не только процесса, обозначенного первым компонентом новообразований, созданных в результате заменительной деривации, но и – имплицитно – непосредственных инициаторов и участников этого процесса как субъектов с нездоровой психикой, одержимых. Не случайно некоторые номинации имеют коррелят – наименование лица: цифроз – циф-розные чиновники ; цифробесие – цифробе-сы (см. примеры (14), (15)).
Однако большинство протестных номинаций цифровизации и ее последствий выражают иную идею – несвобода личности в цифровом обществе вследствие антигуманной сущности самого перехода «на цифру»3. Иными словами, цифровизация, цифровые технологии, цифровая революция интерпретируют-
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ся как абсолютное зло, направленное против природы человека, свободы личности. Например, характерный для материалов, отражающих подобные идеи, заголовок: Опасность нашим правам! предваряет следующее утверждение автора:
-
(24) ...5-я колонна в московском кремле готовит цифрофашизм в России – Новый Мировой Порядок изнутри (Litprichal.ru. 19.12.2022).
Антигуманистический смысл происходящих процессов выражают и встретившиеся нам в обследуемом дискурсе словосочетания на базе существительного оцифровка : оцифровка личности ( человека , населения ). Семантика слова оцифровка не предполагает, что объект, на которого направлено действие, живое существо, поэтому выражения реализуют метафору несвободы, подчиненного положения.
Ключевым в таком восприятии цифровизации нередко становится слово контроль : пишут о тотальном или глобальном цифровом контроле , технологическом контроле , едином или наднациональном цифровом контроле , электронном или прямом машинном контроле и т. п., подчеркивая тем самым опасность потери свободы, ее ограничение в цифровом обществе. Метафорически эту идею в создаваемых протестных номинациях передают определяемые словом цифровой / цифро- существительные, именующие различные, чаще тоталитарные, режимы, репрессивные меры, насильственные действия ( гетто , диктатура , империя , казнь , концлагерь , рабство , фашизм и др.) и нередко служащие в политическом дискурсе ярлыками 4 – см. пример выше и следующие:
-
(25) Пора глазки-то открывать: нас готовят к цифровому гетто (Сельский час. 24.11.2020);
-
(26) ...У нас сейчас выстраивается внутренняя диктатура , в том числе – цифровая (РИА Катюша. 15.12. 2022);
-
(27) Главная борьба разворачивается вокруг попытки Моргулиса... заполучить на свой форум Президента и подвергнуть его « цифровой казни » – так метафорично определяет писатель идею оцифровки верховной власти... (Изборский клуб. 28.02.2018);
-
(28) Если кто-то... решит, что он утратил свое имя и перестанет им пользоваться, то это будет его
РУССКОГО ЯЗЫКА
личный шаг в « цифровое рабство » (Русская идея. 24.01.2022); (см. также: «Биометрическое рабство» – название выпуска передачи на ТК «Спас» от 05.12.2018).
В этом же ряду номинаций находится нео-логизм-контаминант цифрократия (ср.: технократия , Netoкратия ), созданный экономистом-международником, публицистом Валентином Катасоновым для характеристики современного периода – эпохи цифрократии , и новообразование цифроконцлагерь :
-
(29) Не успели противники цифроконцлагеря выдохнуть летом прошлого года, когда в Правительстве заявили об отмене планов по внедрению электронных удостоверений личности, как на совещании в Правительстве 15 февраля... огорошили нас возвращением всех этих планов (Русский календарь. 19.02.2023).
Метафора концлагеря по отношению к новым технологиям не нова. В социальной антиутопии Виктора Пелевина «Любовь к трем цукербринам» (2014), рисующей картины «альтернативного» будущего, напоминающие кадры знакового фильма «Матрица» (реж. Л. и Э. Вачовски; 1999), жизнь человека в «системе» определяется рассказчиком как «мировой электронный концлагерь». В создании новообразований протестного дискурса используется и метафора матрицы из одноименного фильма:
-
(30) Добро пожаловать в новый дивный мир... Очередной закон в рамках цифроматрицы глобалистов... (Континенталистъ. 24.11.2021).
Примерно с 2020 г. встречается, судя по материалам «Интегрума», производное от слова цифроконцлагерь прилагательное, неуступающее по частотности исходному слову. Пишут о цифроконцлагерных законах, регионах, экспериментах над населением, цифроконцлагерном режиме, пространстве, Китае, «жесте власти» (имея в виду проект ЕБС – единой биометрической системы) и др.
Следует отметить, что сема ‘ограничение свободы’ является главной в номинациях пассивных участников цифровизации ( цифровые пленники и рабы ; узники цифрового концлагеря ; рабы цифровой системы ; управляемые биообъекты ; послушные «цифроива-ны» и др.); с ней связан и единственный окказиональный глагол, обнаруженный нами в обследуемом материале ( цифроколонизовать – сложение на базе слов колонизовать и цифра в значении ‘цифровые технологии’):
-
(31) Поэтому рост без развития, которую определили для России планировщики ее стирания, вполне их устраивает, чтобы она разрушалась, была донором метрополии, дешевеющим ресурсом на мировом рынке во всех смыслах этого слова, с нищим населением, которое призвали цифроколонизовать нашим троянцам (Континенталистъ. 06.02.2020).
Номинации прогнозируемого будущего
Среди номинативных средств антициф-рового дискурса футуристических новообразований не так много, как номинаций лица или процесса. Однако сама тема будущего – мы бы определили ее точнее как тему тревожного будущего (по аналогии с выражением тревожная реальность [Купина, 2020]) – занимает в исследуемом дискурсе значительное место. Апелляция к будущему, в котором человечество потеряет свою природу, свободу, подчинится «машине», «цифре», «цифроидолу», обесценится как понятие и превратится в «стадо биороботов» и т. д., в протестном дискурсе служит едва ли не главным доказательством угрожающей опасности цифровизации. Не случайно тема тревожного будущего звучит практически во всех материалах, посвященных последствиям цифровизации (см. примеры (22), (24), (25), (30), (31)), и отражается в некоторых номинациях, рассмотренных выше в связи с идеей несвободы: цифроматрица , цифрофашизм , цифровое гетто , цифроколонизовать , соотносятся не только с планом настоящего, но и с планом будущего.
Следует, однако, заметить, что в медиатекстах, освещающих официальную позицию власти в отношении цифровизации, тема будущего тоже регулярно поднимается. При этом устойчивое выражение цифровое будущее используется как нейтральное или же с явной положительной окраской, которая создается благодаря соответствующему словесному окружению, например: светлое цифровое будущее, новое цифровое будущее, горизонты цифрового будущего, вперед в цифровое будущее. См. также фрагмент статьи из журнала, тематически связанного с IT, где сочетание цифровое будущее входит в оппозицию со словосочетанием аналоговое прошлое:
-
(32) Создатель NFT, Сара Цукер: аналоговое прошлое шоу Сары встречается с головокружительным цифровым будущим... (Сryptohamster.org. 06.04.2023).
Востребовано это выражение и в названии различных мероприятий: поисковая система выдает следующие факты – хакатон « Цифровое будущее », экспозиция « Чувашия – регион цифрового будущего », форум « Открывая цифровое будущее », конференция « Цифровое будущее библиотек » и т. п. Согласно сайту Posudka.ru цифровое будущее есть даже у бытовых товаров:
-
(33) Цифровое будущее рынка товаров для дома (Posudka.ru. 05.04.2023).
Однако противники цифровизации подобные высказывания воспринимают как утопию, иронизируя над доверчивостью своих идейных противников:
-
(34) Ну а что, действительно, очень «удобно» для контроля за человеком... отслеживать по его ID, что он читал, чем интересовался, с кем и на какие темы общался. Мечта « цифрорая »! (КПРФ.ru. 21.12.2022);
-
(35) Но вот и опасности для всех вписанных в электронный мир... обратно пропорциональны тем удобствам, которые сулят нам апологеты цифрорая (Гатчинка – районная вечерка. 27.12.2018).
С точки зрения авторов протестных материалов, цифровое будущее скорее антиутопия в духе Олдоса Хаксли. Дивный цифровой мир , дивный новый онлайн-мир , новый дивный цифровой мир , цифропервобыт-ность – ироничные названия этой антиутопии. Приведем характерный контекст:
-
(36) ... Многие нынешние схемы цифровиза-торов и ультраглобалистов... это утопии (для большей части человечества – антиутопии), призванные убедить всех в неизбежности их трансгуманистического новонормального мира ... то есть подавить волю людей к сопротивлению их « дивному новому миру » (МедиаМера. 30.11.2021).
Частотно также обращение к другому прецедентному тексту футуристической направленности – новый мировой порядок . Выражение используется в ироничных контекстах критически настроенными представителями антицифрового сопротивления; нередко подвергается трансформации, например:
-
(37) Короновирус это репетиция нового мирового цифропорядка под предлогом профилактики пандемии (Континенталистъ. 30.05.2022).
К футурологическим понятиям цифровой эпохи относится понятие «цифровая цивилизация». По наблюдению некоторых лингвистов, термин цифровая цивилизация встречается в «сотнях научных работ» [Волков, Волкова, 2020, с. 68], однако в медиатекстах, избранных для данного исследования, мы его не обнаружили. Тем не менее в контексте нашего исследования значима интерпретация этого термина и понятия в лингвистической литературе. Так, В.В. Волков и Н.В. Волкова пишут, что понятие «цифровая цивилизация» представляет собой феномен «двойного сознания»: одновременно утопия и антиутопия, а по сути, симулякр; сам же термин – косвенная номинация глобализации [Волков, Волкова, 2020, с. 71]. Авторы протестных материалов также связывают «цифропроекты» и «цифроинициативы» по обустройству будущего с процессами глобализации и идеологией глобализма, которые устойчиво ассоциируются с тоталитарными режимами ( тоталитаризм цифровой элиты ; цифровой инклюзивный капитализм ) и, как уже говорилось, личной несвободой граждан:
-
(38) В будущем цифромире мы вольемся в единую систему глобального контроля и управления... (Континенталистъ. 06.12.2021);
-
(39) Фактически это соглашение о подчинении новому мировому порядку, который будет иметь ярко выраженный окрас « цифросанитарной диктатуры» (Накануне.ru. 12.11.2021);
-
(40) Страна действительно превратится в один бесконечный тоталитарный цифровой концлагерь (КПРФ.ru. 21.12.2022).
В целом можно сказать, что с точки зрения создания футуристические номинации не имеют принципиальных отличий от номинаций лиц, номинаций процесса цифровизации и ее последствий. В этой группе, так же как и в двух других, наблюдаются активность модели « цифро - + сущ.» и использование слов-ярлыков в качестве опорных компонентов. Однако именно среди номинаций, обращенных к будущему, обнаружены новообразования, отсылающие к прецедентным феноменам. Семантика созданных таким способом наименований ( дивный цифровой мир , циф-роматрица ) не только содержит оценку (иронию), что характерно и для семантики номинаций-ярлыков, но и вызывает в сознании адресатов речи конкретный образ будущего, сформированный прецедентными феноменами, прежде всего художественными произведениями.
Заключение
Рассмотренные в статье неузуальные номинации, создающие язык антицифрового сопротивления, выполняют оценочную и интерпретирующую функции. Оценочность передается с помощью традиционных средств организации идеологического, политического дискурса – слов-ярлыков, метафоры болезни. Новым является использование в протестных номинациях усеченного варианта «ключевого слова текущего момента» – аффиксоида цифро -. Серийность номинаций с его участием, во-первых, формирует определенную коннотацию форманта: он становится маркером критического отношения к обозначаемому; во-вторых, составляет специфику антицифрового дискурса с точки зрения языковых средств, делает узнаваемым этот сегмент медиадискурса.
Интерпретирующая функция номинаций отражает процесс концептуализации происходящих в ходе цифровизации изменений, наблюдаемых и ожидаемых последствий. Так, смысловой доминантой в семантике создаваемых авторами антицифрового контента обозначений (номинаций лиц, процессов, будущего или настоящего) становится идея несвободы личности. Материальным носителем этой идеи в протестном дискурсе становятся ключевые термины и терминоэлементы официального языка ЦО (цифровой, цифровизация, оцифровка, цифра). Погруженные в протестный контекст, эти единицы дискредитируются соответствующим словесным окружением, заряженным негативной оценкой (ср.: насильственная, принудительная, насаждаемая, насильственно внедряемая цифровизация и в дискурсе сторонников «цифры» – всеобщая, полная). Если принять во внимание, что свое идеологическое оружие есть и у сторонников цифровизации (например, зафиксированы ироничные обозначения их оппонентов: цифровые анархисты <диссиденты, луддиты, пессимисты>; цифрофобы), то можно утверждать, что в условиях мировоззренческого противостояния ключевые термины языка ЦО являются идеологемами: в медийных текстах более актуальным оказывается не их строго понятийное содержание, не их первичное терминологическое (техническое) значение, отражающее связь с новой (не аналоговой) технологией, а идеологический компонент и иллокутивный заряд.
Наш вывод подтверждает наблюдения за прагматическим использованием в современном дискурсе таких терминов ЦО, как экосистема , цифровая экономика , цифровая цивилизация , искусственный интеллект , цифровая личность [Алтухов, Афинская, 2021; Волков, 2020а; 2020б; Волков, Волкова, 2020; Клементьева, 2022; Маринова, 2023]. Из прагматических установок, реализуемых рассмотренными в статье номинациями, наиболее значимы, по-видимому, для авторов антицифровых материалов следующие: обозначить оппозицию «свои – чужие»; дискредитировать «чужих»; выразить негативную оценку происходящим процессам, интерпретируемым как антигуманные; через словесные образы тревожного будущего апеллировать к здравому смыслу своих оппонентов с предупреждающей интенцией.
Как утверждают специалисты, изучающие протестный контент, одна из причин, вызывающих сопротивление со стороны части социума, – вербальный обман, словесное ретуширование в языке власти [Манакина, 2011, с. 129]. Перспективы исследования мы видим в области изучения ложно ориентирующих, непрозрачных терминологических номинаций в языке ЦО (цифровой портрет, цифровое портфолио, цифровая зрелость и др.), камуфлирующих реальное положение дел.
Список литературы Язык антицифрового сопротивления: особенности создания протестных номинаций в русскоязычных медиатекстах
- Алтухов А. В., Афинская З. Н., 2021. К вопросу о пластичности термина экосистема // Вопросы когнитивной лингвистики. № 3. С. 109–116.
- Болдырев Н. Н., 2016. Когнитивные схемы языковой интерпретации // Вопросы когнитивной лингвистики. № 4. С. 10–20. DOI: 10.20916/1812-3228-2016-4-10-20
- Волков В. В., 2020а. Искусственный «интеллект» и человеческий ум: футуристическая синекдоха и реальность (лингвистический и лингвоментальный аспекты) // Вестник Российского ун-та дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. Т. 11, № 4. С. 745–759. DOI: 10.22363/2313-2299-2020-11-4-745-759
- Волков В. В., 2020б. «Цифровая экономика»: лингвистические и лингвоментальные аспекты // Филологические науки. Вопросы теории и практики. С. 135–139. DOI: 10.30853/filnauki.2020.7.24
- Волков В. В., Волкова Н. В., 2020. «Цифровая цивилизация»: утопия, антиутопия или симулякр? // Гуманитарное знание и духовная безопасность: сб. материалов VII Междунар. науч.-практ. конф. Грозный ; Махачкала: Чечен. гос. пед. ун-т: АЛЕФ. С. 67–72.
- Какорина Е. В., 2000. Стилистический облик оппозиционной прессы // Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М.: Яз. рус. культуры. С. 409–426.
- Клементьева А. А., 2022. К вопросу о функционировании термина искусственный интеллект в современном научном и публицистическом дискурсе // Мир русского слова. № 4. С. 14–23. DOI: 10.24412/1811-1629-2022-4-14-23
- Кнорре Б. К., Мурашова А. А., 2021. «В начале было Слово...», а в конце будет число? Православие и антицифровой протест в России: с 1990-х до коронавируса // Мир России. Т. 30, № 2. С. 146–166. DOI: 10.17323/1811-038X-2021-30-2-146-166
- Купина Н. А., 2020. Пандемия коронавируса: метафорическая диагностика тревожной реальности в текстах СМИ // Известия Уральского
- федерального университета. Серия 1, Проблемы образования, науки и культуры. Т. 26, № 3. С. 5–13. DOI: 10.15826/izv1.2020.26.3.044
- Манакина О. Е., 2011. Протестная культура и политический дискурс: опыт Франции // Вестник МГИМО-Университета. № 2 (17). С. 128–134. DOI: 10.24833/2017-8160-2011-2-17-128-134
- Маринова Е. В., 2022а. Семантические доминанты новообразований 2020 года в аспекте кодирования действительности в русском языке // Русистика. Т. 20, № 4. С. 449–466. DOI: 10.22363/2618-8163-2022-20-4-449-466
- Маринова Е. В., 2022б. Оппозиция человек – машина в языковой картине XXI века // Гуманитарный вектор. № 17 (22). С. 161–170. DOI: 10.21209/1996-7853-2022-17-2-161-170
- Маринова Е. В., 2023. Эволюция понятия «виртуальная личность» в цифровую эпоху (социолингвистическое исследование на материале русских текстов) // Научный диалог. Т. 12, № 1. С. 151–169. DOI: 10.24224/2227-1295-2023-12-1-151-169
- Чапаева Л. Г., 2010. Идеологический дискурс 1830–1840-х годов: явные и скрытые смыслы лингвоидеологем // Вестник МГЛУ. № 22 (601). С. 9–18.
- Чудинов А. П., 2007. Политическая лингвистика. М.: Флинта: Наука. 256 с.
- Шейгал Е. И., 2004. Семиотика политического дискурса. М.: Гнозис. 326 с.