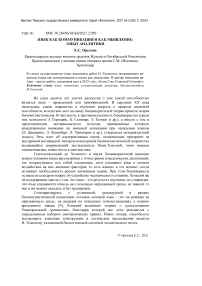Язык как коммуникация и как мышление: опыт аналитики
Автор: Орехова Евгения Сергеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования по теории и истории языка
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье осуществляется опыт аналитики работ Н. Хомского, посвященных вопросам языка как коммуникации и языка как мышления. В центре внимания автора - одна из работ, увидевшая свет в 2015 году, «Some Core Contested Concepts».
Язык, мышление, коммуникация, рекурсия, биолингвистика, н.хомский
Короткий адрес: https://sciup.org/146282264
IDR: 146282264 | УДК: 81 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.2.059
Текст научной статьи Язык как коммуникация и как мышление: опыт аналитики
Краснодарское высшее военное орденов Жукова и Октябрьской Революции Краснознаменное училище имени генерала армии С.М. Штеменко, Краснодар
В статье осуществляется опыт аналитики работ Н. Хомского, посвященных вопросам языка как коммуникации и языка как мышления. В центре внимания автора – одна из работ, увидевшая свет в 2015 году, «Some Core Contested Concepts». Ключевые слова: язык, мышление, коммуникация, рекурсия, биолингвистика, Н.Хомский.
Не один десяток лет длится дискуссия о том, какой способностью является язык – врожденной или приобретенной. В середине XX века наметилась смена парадигмы в изучении вопроса о природе языковой способности, вследствие чего на смену бихевиористской теории пришла теория биолингвистическая. В частности, в противоположность бихевиористам (среди них психологи Э. Торндайк, Б. Скиннер, Э. Толмен и др.), а вместе с тем и представителям экстерналисткого подхода, приверженцы которого акцентировали внимание на внешней мотивации при овладении языком (Л. Дженкинс, Э. Леннеберг, Х. Уриагарек и др.), утвердился интерналисткий подход. Речь идет об альтернативных идеях, оставляющих приоритет за внутренней мотивацией. Автором новаторской биолингвистической теории стал выдающийся американский исследователь Ноам Хомский, чьим именем ознаменовалась новая эпоха в лингвистике.
Господствующий до Хомского в науке бихевиористский принцип вопрос усвоения языка рассматривал с точки зрения поведенческих диспозиций, что подразумевало под собой следующее: дети усваивают язык в момент воздействия на них внешних факторов, то есть именно в тот момент, когда возникает необходимость решать жизненные задачи. При этом бихевиористы оставляли за кадром вопрос об устройстве человеческого сознания. Хомский же не поддерживал мысль о том, что язык – это результат научения, он утверждал, что язык усваивается отнюдь не с помощью окружающей среды, не зависит от нее и им можно овладеть и без тренировки.
Солидаризируясь с установкой, реализуемой в рамках биолингвистической концепции, согласно которой язык – это не реакция на окружающую среду, не реакция на поведение (стимул-реакция), а именно врожденное знание [9], Хомский выдвигает теорию о существовании Универсальной грамматики, благодаря которой все дети рождаются с определенным набором синтаксических правил. Иначе говоря, способность выстраивать языковые конструкции в логические предложения видится Н. Хомскому заложенной биологической системой человеческого мозга.
Однако наиболее оригинальной и революционной идеей Хомского стала идея о том, что язык формируется не от звуков, а затем к словам и предложениям, а, наоборот, от абстрактных синтаксических структур к фонетике. Именно поэтому в рамках разрабатываемой американским ученым генеративной грамматики предпринимались попытки абстрактного моделирования усвоения языка как такового, без привязки к конкретному языку. При этом врожденный компонент человеческого сознания, помогающий овладеть грамматикой языка, получил у генеративистов название языковой компетенции [5: 4]. В данном контексте язык предстает в качестве «вычислительной системы, порождающей бесконечное множество выражений, каждое из которых имеет определенную интерпретацию в семантикопрагматической и сенсомоторной системах (в общем смысле в мышлении и в звуковой речи)» [4: 9].
Именно в этом, по мнению нашего современника, и заключается базовое свойство языка. Как пишет ученый в статье «Основные оспариваемые концепции», I-language – «система дискретной бесконечности <...> это некая вычислительная процедура, которая дает неограниченный массив иерархически структурированных выражений» [6: 7]. Несмотря на высокий уровень абстракции разрабатываемых Хомским идей, и, как следствие, их оторванность от действительности, перспективность обозначенного направления определяется, на наш взгляд, тем, что, размышляя о сущности языка, Хомский считает недопустимым рассматривать его исключительно в качестве средства общения.
В данном контексте необходимо учитывать тот факт, что языковая система, на основе которой могут генерироваться структурные выражения любого размера, заключает в себе два элемента. Первый элемент – это синтаксис, представляющий собой некий набор правил, обусловливающих возможность комбинировать слова. Второй элемент – словарь, из которого слова попадают в синтаксический модуль. Однако для того, чтобы обеспечить производство и понимание речи, нужны дополнительные промежуточные звенья – интерфейсы, связывающие языковую систему с другими биосистемами человека.
Таких интерфейсов, по мысли Хомского, два: сенсорно-моторный (внешний) и концептуально-интенциональный (внутренний). Первый отвечает за перевод абстрактных синтаксических структур в линейную форму (звук следует за звуком, слово – за словом). Обеспечивая связь с внешним миром, т.е. обусловливая экстернализацию, обозначенная форма в итоге реализуется либо посредством речи (устная форма), либо – посредством последовательности жестов (если речь идет о жестовых языках).
Второй – концептуально-интенциональный (внутренний) интерфейс – отвечает за связь с внутренней когнитивной системой, которая инициирует мыслительные процессы. Понятно, что сущностную сторону языка Хомский связывает исключительно со вторым интерфейсом. При этом устройство человеческой мысли видится американскому ученому иерархическим (подобно тому, как существует бесконечное число языковых выражений, существует и бесконечное число мыслей).
Соответственно, если в рамках концептуально-интенционального интерфейса происходит формирование иерархических структур, то в рамках сенсорно-моторного интерфейса – их деформация, вследствие чего обозначенные структуры утрачивают изначальный объем, становясь более плоскими. Именно данная идея и позволяет Хомскому утверждать, что язык, прежде всего, инструмент мышления. Настоящее значение языка, по словам Хомского, заключается в том, что он делает возможным абстрактное и творческое мышление. Язык сначала позволяет создавать отвлеченные представления в нашей голове, а уже потом – делиться своими мыслями с окружающими.
Следует заметить, что в процессе изучения языковой способности идеи Хомского претерпевали определенные трансформации, и к середине 90-х годов Хомский предложил современную программу исследований. Некоторые пересмотренные им гипотезы нашли отражение в работе «Минималистская программа» [7], в которой, в частности, Хомским модифицируется механизм порождения речи. Так, если прежде в фокусе научного интереса Хомского находилась идея о поверхностной структуре предложения, связанннная с фонетико-фонологическим или орфографическим воплощением, а также лежащей в ее основе глубинной структурой, отвечающей за смысловое содержание, то позднее в центре внимания ученого оказалась деривационная модель [3: 39]. Её особенностью выступает последовательная организация структуры предложения путем соединения простых фрагментов в более сложные.
Отстаивая свои позиции, Хомский констатирует, что «языковой орган» крайне прост в своем устройстве: ему присуща всего одна операция – слияние (merge). Причем, одно слово – это синтаксическая составляющая, которая, объединяясь с другим словом, образует синтаксическую составляющую другого порядка, и так далее, пока не получится законченное предложение. Совершать операцию слияния можно только обладая способностью к простейшему логическому процессу, заключающемуся в возможности вкладывать одну и ту же структуру в саму себя неограниченное число. Это называется рекурсией. Именно она является базой для человеческой языковой способности.
Проведенные эксперименты по обучению высших приматов и животных человеческому языку показали, что некоторые животные способны понимать простейшие числа и владеть простейшим счетом, но они не способны перейти к рекурсивным действиям с числами. Среди наиболее успешных в обучении животных были выявлены те, что овладевали уровнем языковой способности двухлетнего ребенка (генеративисты называют это дограмматическим уровнем владения языком). Несмотря на то, что такие животные, как и дети, могут изъясняться на уровне пиджина (жаргон, где отсутствует развернутая грамматика) [1], они ограничены во внутренней способности к мышлению.
Отталкиваясь от мысли, согласно которой язык определяется соотношением звука и значения, складывающимся на базе внутреннего состояния пользователя, Хомский констатирует: изучение языка вне звука возможно, хотя его нельзя будет считать полным. Аргументируя представленную точку зрения, ученый фиксирует внимание на ситуации, когда в процессе изучения пчел мы игнорируем их внутреннее состояние, что вносит определенные погрешности, нарушая чистоту эксперимента. Настаивая на том, что, если работу органов перцепции и артикуляции мы хоть как-то можем представить, то работа мышления – сложный случай, Хомский заставляет вспомнить объективность того факта, что мышление может быть не только вербализованное, но и образное, чувственное, телесное.
Утверждая, что лингвистика, рассматриваемая на уровне универсальной грамматики, выступает в качестве «составной части психологии, имеющей дело с аспектами мышления» [3: 39], Хомский в работе «О природе и языке» делает следующее заявление. «Язык не считается системой коммуникации в собственном смысле слова. Это система для выражения мыслей, т. е. нечто совсем другое. Ее, конечно, можно использовать для коммуникации… Но коммуникация ни в каком подходящем смысле этого термина не является главной функцией языка» [2: 114].
Признавая наличие у каждого живого существа собственного инструмента общения, не обязательно сходного с человеческим языком, Хомский считает, что именно последний не вполне пригоден для коммуникации ввиду своей многозначности. Это тем более очевидно, что значение произведённых слов зависит как от самого актора, так и от его слушателя (имеются в виду культурные, идеологические и др. особенности).
Таким образом, в отличие от бихевиористов, которых не интересовала внутренняя мотивация языковой способности, Хомский обратил внимание именно на внутренние факторы, провозглашая установку, согласно которой языковое поведение возможно благодаря когнитивным и физиологическим (устройство речевого тракта) способностям. Сфокусировав свой научный интерес на ментальных способностях, лежащих в основе познавательных и умственных способностей, Ноам Хомский совершил «когнитивную революцию», заложив фундамент для новых открытий.
Список литературы Язык как коммуникация и как мышление: опыт аналитики
- Уметалиева-Баялиева Ч. Рождение языков: жаргон, пиджин, смешанные языки, креольские языки // Символ науки. 2016. №2-3. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rozhdenie-yazykov-zhargon-pidzhin-smeshannye-yazyki-kreolskie-yazyki (дата обращения: 06.01.2021).
- Хомский Н. О природе и языке. М.: КомКнига, 2005. 288 с.
- Хомский Н. Язык и мышление (перевод с английского Б.Ю. Городецкого). М.: Изд. МГУ, 1972. 123 с.
- Хомский Н., Бервик Р. Человек говорящий. Эволюция и язык. Спб.: Питер, 2019. 304 с.
- Chomsky N. Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use // CONVERGENCE. A Series Founded, Planned, and Edited by Ruth Nanda Anshen/ New York: Praeger Publishers. 1986. P. 1-15
- Chomsky N. Some Core Contested Concepts. J Psycholinguist Res. 44, P. 91-104. DOI: 10.1007/s10936-014-9331-5
- Chomsky N. The Minimalist Program. (Current Studies in Linguistics 28). Cambridge, MA: MIT Press, 1995. P. 420.
- Pinker S., Jackendoff R. The faculty of language: What's special about it? Cognition. 2005. Р. 201-236.
- Skinner B.F. Verbal Behavior. Acton, MA: Copley Publishing Group. 1957. Р. 478