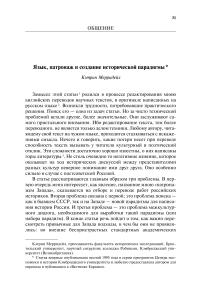Язык, патронаж и создание исторической парадигмы
Автор: Мерридейл Кэтрин
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Общение
Статья в выпуске: 1-2, 1998 года.
Бесплатный доступ
Замысел этой статьи родился в процессе редактирования мною английских переводов научных текстов, в оригинале написанных на русском языке 2. Возникли трудности, потребовавшие практического решения. Поиск его - одна из задач статьи. Но за чисто технической проблемой встали другие, более значительные. Они заслуживают самого пристального внимания. Ибо редактирование текста, тем более переводного, не является только делом техники. Любому автору, читающему свой текст на чужом языке, приходится сталкиваться с искажениями смысла. Нечего и говорить, какие потери несет при переводе способность текста вызывать у читателя культурный и поэтический отклик. Эти сложности достаточно хорошо известны, о них написаны горы литературы 3. Не столь очевидно то негативное влияние, которое оказывает на ход исторических дискуссий между представителями разных культур неверное понимание ими друг друга. Оно особенно сильно в случае с постсоветской Россией. В статье рассматриваются главным образом три проблемы. В первую очередь меня интересует, как явление, названное мною «патронажем Запада», сказывается на отборе и переводе работ российских историков. Вторая проблема связана с первой; это проблема поиска - как в бывшем СССР, так и на Западе - новой парадигмы для написания истории России. И третья проблема - это проблема межкультурного диалога, необходимого для выработки такой парадигмы (или набора парадигм). В конце статьи речь пойдет о том, как важно пересмотреть привычные для Запада подходы, в чем бы они не проявлялись: во внешне беспристрастных стандартных академических требованиях, предъявляемых к научному тексту, или в куда более сложном деле - в написании новой версии новейшей истории.
Короткий адрес: https://sciup.org/14911684
IDR: 14911684
Текст научной статьи Язык, патронаж и создание исторической парадигмы
Замысел этой статьи 1 родился в процессе редактирования мною английских переводов научных текстов, в оригинале написанных на русском языке 2. Возникли трудности, потребовавшие практического решения. Поиск его — одна из задач статьи. Но за чисто технической проблемой встали другие, более значительные. Они заслуживают самого пристального внимания. Ибо редактирование текста, тем более переводного, не является только делом техники. Любому автору, читающему свой текст на чужом языке, приходится сталкиваться с искажениями смысла. Нечего и говорить, какие потери несет при переводе способность текста вызывать у читателя культурный и поэтический отклик. Эти сложности достаточно хорошо известны, о них написаны горы литературы 3. Не столь очевидно то негативное влияние, которое оказывает на ход исторических дискуссий между представителями разных культур неверное понимание ими друг друга. Оно особенно сильно в случае с постсоветской Россией.
В статье рассматриваются главным образом три проблемы. В первую очередь меня интересует, как явление, названное мною «патронажем Запада», сказывается на отборе и переводе работ российских историков. Вторая проблема связана с первой; это проблема поиска — как в бывшем СССР, так и на Западе — новой парадигмы для написания истории России. И третья проблема — это проблема межкультурного диалога, необходимого для выработки такой парадигмы (или набора парадигм). В конце статьи речь пойдет о том, как важно пересмотреть привычные для Запада подходы, в чем бы они не проявлялись: во внешне беспристрастных стандартных академических
Кэтрин Мерридейл, преподаватель факультета исторических исследований, Бристольский университет, научный сотрудник колледжа Робинсон, Кэмбриджский университет (Великобритания).
требованиях, предъявляемых к научному тексту, или в куда более сложном деле — в написании новой версии новейшей истории.
I
Связь между переводом и патронажем видна не сразу. Чтобы ее разглядеть, надо присмотреться к процессу отбора и редактирования работ российских ученых. Сущность проблемы вовсе не в передаче языковых тонкостей: статьи, переведенные с русского вполне качественно, тоже могут не найти отклика у англоязычной аудитории. Главное в другом — в контроле над их содержанием. В чем он заключается и почему я вообще говорю о патронаже? Да в том и потому, что западные специалисты распоряжаются фондами, наделяют стипендиями и решают, публиковать ту или иную работу русских, стремящихся к расширению своих научных контактов, или отложить ее в долгий ящик. И еще в том, что наше неприятие самобытных и кажущихся нам «дикими» элементов русской интеллектуальной традиции оборачивается своего рода цензурой и это обстоятельство имеет прямое отношение к вопросу о формировании нового мышления, способного рождать новые парадигмы.
Высказанное в общем виде утверждение, будто кто-то пытается ограничить российскую научную мысль, наверняка вызовет резкие возражения у многих. И действительно, никто не собирается подвергать цензуре работы коллег из России сознательно. Однако когда дело доходит до конкретных текстов, когда надо решать, стоит ли профинансировать конкретный проект, представляемый этими текстами, факт цензуры сразу становится очевидным. В качестве примера могу сослаться на груду научных разработок, поступивших от российских участников Форума по общей (совместной) безопасности. Почти ни одна из них так и не продвинулась от стадии неотредактированного перевода до стадии опубликования. Загвоздка тут в том, что в англоязычной научной среде приняты определенные требования к тексту. Поскольку они определяют структуру наших собственных сочинений, все мы разделяем устоявшееся представление о том, что такое логический аргумент, какого типа доказательства корректны, каким должно быть соотношение примеров и обобщений, переход от первых ко вторым 4. По форме работы мы можем предвидеть ее содержание (и наоборот); и мы уж никак не ожидаем, что ход рассуждений автора и процедура вывода могут привести читателя в состояние недоумения. И когда мы сталкиваемся с работой, не отвечающей этим привычным для нас требованиям, она воспринимается нами как непрофессио- нальная. А в худшем случае мы просто не в состоянии понять, в чем, собственно, ее смысл.
Первая трудность в том и состоит, что подлежащие переводу тексты из России не соответствуют нашим стандартам. Причину этого часто видят в отсутствии у авторов необходимого опыта. В конце концов российская наука еще только выходит из долгой поры безвременья, начинающим историкам еще только предстоит учиться основным профессиональным навыкам. Но если бы дело было только в этом! Главное, что раздражает в трудах российских ученых, это не отсутствие сносок, а сам их стиль и научный догматизм.
Русская мысль во многом восходит к традициям, сложившимся в Европе после эпохи Просвещения. Вот почему она представляется нам вполне постижимой. И действительно, разве главной задачей реформ Петра Великого не было наведение моста между двумя мирами — между варварской, как он считал, Россией и цивилизованным Западом? И разве Екатерина не продолжила дело Петра, познакомив свой двор с идеями Бентама и философов ?
Все это было. Но было и то, что побеги с Запада прививали к мощному русскому стволу. В результате произошло переплетение двух традиций. Тематика, хорошо знакомая английским и американским читателям, разрабатывалась с помощью идей, берущих начало в иной, неевропейской философской и семиотической традиции, сам способ мышления упорно восходил к допетровским временам. Да и сейчас в языке и в характере рассуждений, типичных для многих публикуемых в Москве работ, по-прежнему обнаруживается «дуальная модель» русской культуры (определение Ю. Лотмана) — жесткое противопоставление белого и черного при отсутствии третьего, нейтрального элемента 5. Не будем касаться не раз обсуждавшегося вопроса, почему так получилось; подчеркнем лишь, что обусловленное этим дуализмом различие между русской и европейской культурами играет принципиальную роль с точки зрения исторического диалога между ними. Трудности понимания, сразу бросающиеся в глаза, когда мы имеем дело с текстами индейцев майя или древних китайцев, в русских текстах скрадываются из-за того, что хорошо нам знакомые термины и обороты употребляются в них необычным образом. Здесь, как и во многих других областях, Россия являет культуру, одновременно и европейскую, и в корне от европейской отличающуюся.
Западным историкам трудно улавливать эти семиотические различия — не говоря уж о том, чтобы их анализировать. Сами они в своих неявных установках часто остаются позитивистами. Пятидесятилетний опыт противостояния официальной лжи сталинизма тоже не способствует лучшему пониманию. Поэтому, столкнувшись в работах своих российских коллег с тем, что представляется дилетантством или догматизмом, они нередко впадают во искушение — улучшим эти тексты! доведем их до приемлемого вида! Но что получается в результате такого движимого лучшими намерениями редактирования? Возможности для межкультурного диалога сокращаются или вовсе утрачиваются, пропасть взаимного непонимания двух частично совпадающих культур углубляется. В конечном счете, превращая текст российского автора в нечто привычное, редактор фактически осуществляет цензурный контроль и тем самым перекрывает путь к построению новой исторической парадигмы.
Выход один — принимать оригинал таким, каков он есть, переводить его как можно более бережно, так, чтобы слова говорили сами за себя. Это позволит аудитории, не знающей русского языка, услышать русских ученых, воспринять их новые идеи в неискаженном виде. Однако тут таятся опасности иного рода. Прежде всего, велика вероятность, что написанные в России тексты не найдут за пределами России своего читателя. Мало кто из западных ученых будет тратить на них время, не будучи заранее уверен в том, что его не постигнет разочарование. Еще важнее другое: результат может оказаться не слишком приятным потому, что знакомство с «чужими» и необычными идеями способно подтолкнуть к критической переоценке идей «своих», устоявшихся. Может даже зародиться подозрение, что западный способ мышления не гарантирует постижения истины.
По существу, мы можем попасть в ситуацию, уже знакомую по развивающимся странам: сначала у зависимых государств начинает формироваться собственное понимание происходящего в мире, затем распространяется неприятие западного образа мысли и действия 6. В постсоветских обществах тоже могут возникнуть сомнения в правильности нашего взгляда на мир — несмотря на то, что он, казалось бы, получил надежное подтверждение в самом факте крушения коммунизма.
Как бы ни были неудобны все эти вопросы, игнорировать их нельзя. Опасности, таящиеся в цензурном вмешательстве Запада, могут ощущаться далеко за рамками научного сообщества. В постсоветской России проблемы истории оказались ключевыми: с них начинается и в них упирается поиск российской идентичности. Поэтому создание нового целостного представления о собственной истории не может быть отложено до лучших времен. Подходы, заимствуемые на Западе, как бы они ни были привлекательны на первый взгляд, не могут заменить собственного, в самой России родившегося, подхода к национальной истории. Если историки-профессионалы провалятся, если они не удовлетворят потребности в новом систематическом изложении этой истории, их место займут идеологи, притом крайнего направления. Уже сейчас большинство новых исторических идей, имеющих хождение в России, возникли отнюдь не в среде профессионалов; и тот же Жириновский, например, во многих своих высказываниях учитывает восприятие российской истории массовым сознанием 7. В таких условиях на ближайшие годы не остается ничего иного, как поощрять и использовать любую не слишком уж вредную историческую идею. Иначе сидеть нам на обочине сторонними наблюдателями схватки между пропагандистами неофашистской версии национальной истории России и постоянно обороняющимися, теснимыми и уязвимыми сторонниками иных версий. Но что значит «использовать идею»? Да то и значит: отказаться от патронажа в любой форме и произвести переоценку того, к чему мы сами привыкли.
Ситуация осложняется, однако, тем, что ученые России, да и российское общество в целом довольно основательно восприняли некоторые западные интерпретации истории. Вряд ли могло быть по-другому. Крушение коммунистической идеологии было столь быстрым и полным, что заменить ее в России оказалось нечем. Исчезла вся система идей, ядром которой была особая версия истории. Одновременно Россию охватила жажда «фактов» — о сталинских чистках, о «голодоморе», о пакте Риббентропа-Молотова, о Катыни, Челябинске-40 и т.д. Подобно самым свежим новостям, исторические сведения заполняли первые полосы ежедневных газет 8. Вместе с тем, остро не хватало теории — и в образовавшийся вакуум хлынули идеи и разработки западных историков.
Cитуация в других бывших советских республиках — Украине, Узбекистане, Грузии и т. д. — должна была меняться несколько иным образом. Не имея собственного опыта современной государственности, эти республики пошли по тому же пути, что и страны Индийского субконтинента или Африки после освобождения от колониальной зависимости. Им удалось создать правдоподобную версию своей истории. Стержнем ее стало повествование о колониальном гнете и национальном возрождении. Правда, при этом все равно осталась нерешенной болезненная проблема национальной идентичности 9. Немаловажную роль сыграли здесь идеи и финансовая помощь, поступавшие от состоятельной диаспоры в западных странах 10. Так, новый учебник по истории Украины был написан в Торонто. В России же главная трудность заключалась в том, что гнет, который она испытала, был чисто политический — гнет тоталитарной марксистско-ленинской системы. Национальное сознание русских было тесно связано с территориальной экспансией и остается связанным с представлением о едином Советском Союзе и его идеологической миссии. Именно поэтому крах империи лишил русский народ целостного представления о своем прошлом.
Профессиональные историки в России по сей день не нашли выхода из этого положения. «Гласность» способствовала появлению многочисленных захватывающих дух разоблачений — и она же выявила несостоятельность официальных исторических концепций. Журналисты, кинорежиссеры, даже политики сумели откликнуться на потребность общества в новой трактовке советского прошлого куда быстрее, чем историческая наука 11; историк же стал объектом жалости, недоверия и презрения. Самые заскорузлые представители старой гвардии вообще перестали что-нибудь писать. Зачем? Лучше стать этаким академическим посредником для бывших идеологических врагов: торить им дорожку в архивы, а то и приторговывать их содержимым по нехитрой схеме — мы вам закрытый прежде документик — вы нам бутылку Джонни Уокера с черным «лейблом». Что до остальных, то лучшие из них погрузились в мучительные сомнения 12. Другие постарались подстроить свою работу под проблемы, обсуждаемые западными коллегами, освоить наш дискурс, принять наши теоретические модели и тематические приоритеты, несмотря на то, что многие из них восходят еще к тем временам, когда холодная война была в разгаре 13. Следует заметить, что поначалу такой выбор не навязывался извне.
В это же время стало ясно, что молодые российские историки нуждаются в лучшей подготовке, что им не хватает некоторых базовых исследовательских навыков. Для людей, чье обучение основывалось главным образом на механическом заучивании высочайше утвержденных текстов, откровением явилось представление о том, что к истине могут вести несколько путей и что возможны несколько верных ответов на один вопрос. А ведь им предстояло еще научиться строить корректное соотношение между логическим доводом и историческим свидетельством, научиться правильно указывать на источники и на заимствования из работ других ученых, научиться даже самой технике сносок! Тут на помощь российской науке пришли университеты развитых стран: они организовали для студентов из стран СНГ ряд курсов по истории и социальным наукам. Помимо прочего, эти курсы должны были помочь преодолеть методологическую изоляцию, познакомить молодых ученых с тенденциями западной мысли на всем протяжении ее развития после Маркса — от структурализма до постмодернизма, от Талькотта Парсонса до Фуко и далее.
Необходимость усваивать западное научное мышление не оставляла времени для того, чтобы заниматься разработкой новой парадигмы российской истории. Но имелись и другие причины для такой задержки. Главной среди них, как я уже отмечала, было явление, с которым русским раньше не приходилось сталкиваться, — западный патронаж. То, что начиналось как посткоммунистический кризис идеологии, обернулось устойчивой практикой неэквивалентного интеллектуаль- ного обмена. Во многих отношениях он сопоставим с обменом при империализме. Правда, как это обычно и бывает при империализме, такой обмен вовсе не обязательно выражается только в обогащении одной стороны за счет другой. Но уже ясно, что его промежуточный результат — оскудение исторической мысли в России.
В некоторых отношениях метафора «империализм» до смешного буквальна. Всякий, кому приходилось сиживать в устланном красными ковровыми дорожками коридоре, ведущем к главному читальному залу бывшего Центрального партийного архива, мог воочию наблюдать систему неэквивалентного обмена в действии. Торговля началась, как только архивы стали открытыми (на деле даже раньше), — и началась потому, что западные ученые жаждали получить пачки материалов в кратчайшие сроки. Кое-кто нанимал себе помощников. Благодаря этому задуманное исследование продвигалось вперед и тогда, когда его автор пребывал у себя дома — либо потому, что должен был преподавать или выполнять другие обязательства, либо из-за нежелания смириться с некоторыми сторонами московской жизни, представлявшимися ему крайне неприятными. Так или иначе, но начиная примерно с 1988 года западные ученые стали платить, а советские историки — с энтузиазмом получать (в твердой валюте) за выполнение всей первичной работы. Одни поставляли на продажу сырой материал, шедший по совершенно ничтожным ценам; другие его обрабатывали и в бешеном темпе публиковали статьи — выжимки из архивных находок.
Обмен приносил выгоду обеим сторонам. Архивы нередко получали столь нужную им помощь в деле сохранения документов. Или их услуги оплачивались оборудованием — аппаратами для чтения микрофильмов, компьютерами. Отдельные сотрудники архивов побывали в США, в Библиотеке Конгресса, или в Англии, в Британском музее и Центре общественной документации. Но как бы все это ни подслащивало горечь обмена, все равно никуда не деться от сознания того, что обмен этот был и остается глубоко неэквивалентным. Правила его не одни и те же для разных участников. Толстокожие западные заказчики могут за чашкой чая побрюзжать, что, вот мол, Президентский архив по-прежнему недоступен или что качество получаемых ими микрофильмов скверное. Но они знают: документы, которые они видят в Москве, даже при самом беглом и беспорядочном просмотре оказываются, как правило, гораздо пространнее и красноречивее, чем те осторожные официальные бумаги, которые делают достоянием публики правительства западных стран.
Еще более показателен тот факт, что никому и в голову не приходит приехать в Кью для того, чтобы покупать из-под прилавка госу- дарственные бумаги, хранящиеся в Центре общественной документации.
Вопрос о несанкционированных продажах в российских архивах обсуждался уже неоднократно. Предпринимались даже попытки составить некие правила поведения для ученых, заинтересованных в российских архивных материалах, и сделать эти правила, по видимости добровольные, фактически обязательными 14. Но пока экономика России находится в кризисе, а жалованье российских архивистов остается низким, у них постоянно будет возникать искушение заняться подпольной торговлей. К тому же нет и намека на то, что поток покупателей — а в их число входят не только ученые, но и журналисты и издатели — может в скором времени иссякнуть. И хотя многие из них не претендуют на приобретение оригиналов документов, зато они охотно покупают, говоря словами Виктора Данилова, «право первой ночи» — исключительное право выжимать их этих документов все, что в них есть нового 15.
Материальные затруднения, испытываемые российскими учеными и архивистами, тормозят формирование новой парадигмы разными способами. Среди талантливой московской молодежи мало кто готов отказаться от блистательных перспектив, открываемых коммерческой деятельностью, — и все ради того, чтобы заняться изнурительным и низкооплачиваемым исследовательским трудом. А для тех, кто все-таки это делает, краткосрочные контракты с западными организациями — чуть ли не единственный способ решения денежных проблем. Во многих научных учреждениях Москвы заработная плата не выплачивается месяцами. Когда же ее, наконец, выдают, полученных денег не хватает на жизнь и одному человеку. Что уж тут говорить о содержании семьи! Кто может, подрабатывает, нанимаясь в помощники западных ученых. Эти подработки зачастую приносят львиную долю доходов, и в таких условиях нет иного выбора, как придерживаться исследовательских приоритетов нанимателей.
У помощников остается слишком мало времени для того, чтобы поразмышлять над прочитанным. А большинству не хватает еще и уверенности в себе. Да и что могло бы придать смелость российской научной мысли тотчас после крушения коммунизма? Русским, сотрудничающим с западными коллегами, трудно противостоять обаянию капитализма. На его стороне и видимое изобилие, и богатство выбора. Западные исторические модели получают свое обоснование в материальных успехах развитого мира. Вдобавок они — продукты той самой политико-экономической системы, которую в нынешней России многие без колебаний объявляют менее безнравственной, чем была советская коммунистическая система. Нравственность — не та концепция, на которую можно с легкостью полагаться в дискуссии, имеющей четкий исторический контекст; и уж тем более спорно считать ее исключительным достоянием той или иной стороны. За капитализмом числятся собственные преступления. Но для советского человека, хорошо знающего, что такое массовые политические убийства, цензура, лагеря, вопрос представляется предельно ясным. «Вы были правы, а мы ошибались», — утверждал недавно в разговоре со мной один российский социолог 16, отнюдь не принадлежащий к числу поверхностных или плохо информированных наблюдателей. И этим, по его мнению, и исчерпывается проблема культурного империализма.
Что ж, если сравнить западную либеральную модель с катастрофическими результатами деятельности советского коммунизма, то нельзя отказать первой в привлекательности. Наша относительно не ограниченная интеллектуальная свобода, размах и острота нашей научной мысли действительно принесли богатые плоды. Но мы преуспели отнюдь не во всех областях исследования. История же — вообще особый случай. В ней не может быть универсальных моделей, каждая культура и каждое поколение пишут ее заново. И поэтому, как я уже говорила, совершенно необходимо, чтобы новая версия российской истории была как можно скорее написана в самой России. Это — приоритетная задача, она останется таковой вне зависимости от качества западных исторических трудов о Советском Союзе, а их недостатки лишь делают ее еще более настоятельной. Но если империалистический по своему характеру обмен будет продолжаться, то какую версию мы получим в итоге? Боюсь, что конечный продукт будет слишком несовершенным. И то, что ажиотаж последних десяти лет мешал увидеть эту перспективу, еще не означает, что можно и дальше ее не замечать.
II
За последние несколько лет вопрос о слабостях, присущих писаниям западных историков о Советском Союзе, поднимался неоднократно 17. С разрушением коммунистической системы разрушился и главный объект большинства наших трудов — первое в мире социалистическое государство. Все, кто был причастен к спорам о его возникновении и достоинствах, попали в тиски идеологического кризиса. В особо трудном положении оказались историки левого толка 18. Правые, напротив, поначалу полагали, что их правота полностью подтвердилась. Паладины холодной войны вроде Ричарда Пайпса, Уолтера Лакера и Роберта Конквеста могли теперь торжествовать на страницах литературных журналов: казалось, что каждая новая находка в российских архивах подкрепляет их взгляд на сталинизм как на тоталитарную диктатуру, разрушительную для общества и несовместимую с гуманистическими общественными принципами 19. Социализм был отвергнут и развенчан в своей собственной твердыне. «Еще не высохла типографская краска, — ликовал Лакер, — на статьях и книгах, доказывающих, что не следует преувеличивать масштабы террора... как в советских источниках появились упоминания о миллионах или даже десятках миллионов жертв» 20.
Даже если бы повод для такого ликования не был столь чудовищным с человеческой точки зрения, мало оснований для того, чтобы поздравлять себя с победой. В ходе изучения ими советской истории ни правые, ни левые на Западе так и не приблизились к действительно сложным вопросам. Возьмем, например, сюжет, о котором упомянул Лакер, — о точном числе жертв сталинской коллективизации, организованного государством голода и политических репрессий 21. Цифры, конечно, важны. Сколь бы значительной ни была та или иная трагедия сама по себе, для понимания вызвавшего ее режима, его воздействия на общество важно знать, исчислялись ли жертвы десятками тысяч или миллионами. Но хотя цифры еще надо проверять (впрочем, в силу разных причин их точность может так и остаться сомнительной), более существенны скрывающиеся за ними вопросы 22 — о качестве жизни в деревнях, природе политических союзов, реакции общества на смерти и т.д. Всем этим пренебрегали в пылу статистической дуэли. Похоже, что для правых и левых в США и Англии спор о числах был в действительности не столько спором о существенных особенностях российской истории, сколько почти что узаконенным способом вести между собой тренировочные бои. Начало спору было положено на Западе, и тогда он не был адресован российской аудитории. Сейчас эта его особенность отпала; соответственно вместо того, чтобы думать, кто был ближе к истине — левые или правые, — мы должны целиком изменить само наше отношение к предмету спора.
Вероятным последствиям той односторонности, что выявилась в процессе развертывания на Западе дебатов о российской истории, уделялось мало внимания.
И это при том, что неучастие в дебатах советской стороны — или, скорее, ее неспособность вступать в активную дискуссию — помешала развитию исторических идей повсюду. Одним из таких последствий явилась тенденция к чрезмерному сосредоточению западных исследователей на отдельных проблемах типа проблемы стратегической безопасности или идеологических различий. Другое последствие, как минимум столь же серьезное, что и первое, — это утрата возможности обогатить язык западных исторических сочинений. В лучшем случае в них использовалась (к тому же в искаженном виде) лишь официальная советская терминология, то есть слишком большое значение придава- лось терминам и смыслам, весьма слабо отражающим потенциал русского языка.
Мы до сих пор в полной мере не оценили последствий удара, нанесенного российской исторической науке при Сталине. Уже с 20-х годов в Советском Союзе господствовала версия истории, представлявшая собой откровенную, примитивную и беззастенчивую ложь. После 1938 года она была канонизирована в «Кратком курсе истории ВКП(б)» и последовавших за ним писаниях. Разумеется, в России никогда не прекращалась разработка идей, не отвечавших официальной точке зрения, в том числе — изящных и плодотворных теорий в области истории культуры (или, как ее часто называли, этнографии). Но взятая в целом, советская историческая наука их не восприняла. Они остались достоянием одиночек, их обсуждали на московских кухнях — в промежутках между выпивкой и закуской 23. Отдельные историки, как Виктор Данилов или Павел Волобуев, продолжали создавать отличные труды, основанные на анализе первоисточников. Но вследствие их изоляции (а в 70-е годы — и прямой травли) они не могли оказать решающего влияния на развитие официальной исторической науки. Впрочем, если бы им это и удалось, сомнительно, чтобы они смогли привлечь внимание западных историков. Между прочим, некоторые из их работ были переведены 24, однако их влияние на западную науку едва различимо. Но если и сейчас нам трудно разобрать, что говорят российские ученые, то уж во времена, когда им приходилось действовать в условиях строгой цензуры, да еще изъясняться на языке сверхупрощенном, уродливом и буквально испещренном топорными идиомами марксизма-ленинизма, это и вовсе было невозможно.
Поскольку контакты с жителями СССР были весьма ограничены, а неофициальные сочинения и мемуары труднодоступны, западные специалисты основную свою энергию направляли в область идеологии. И всюду, где это происходило, профессиональное сообщество раскалывалось на две части. Граница пролегала между теми, кто был убежден, что изучает своего противника 25, и теми, кого не устраивали примитивные выводы, получавшиеся при таком подходе. Среди последних некоторые открыто признавали свою приверженность социалистическим ценностям 26. Другие упорно стремились доказать, что у них вообще нет каких-либо пристрастий 27. Однако дух конфронтации брал верх, и каждый, словно притянутый магнитом, рано или поздно оказывался по ту или другую сторону разделительной линии. В истории это происходит так же, как и в любой другой области социальных наук.
Как объект изучения, Советский Союз числился на Западе по ведомству региональных исследований. Такое его обособление напра- шивалось само собой, коль скоро была признана стратегическая важность объекта. Оно было также удобно и потому, что облегчало специализацию молодых ученых, усвоение ими достаточно специфических навыков, необходимых для установления профессиональных контактов в СССР. Но похоже, что оно также усугубляло профессиональные проблемы с чисто практической стороны: вело к искусственной изоляции самого объекта и к превращению занимающихся им ученых в своего рода масонскую ложу. Историки СССР зачастую удовлетворялись советологической аудиторией и мало общались с коллегами, изучавшими другие общества. Они стали «специальным случаем», наподобие предмета их специализации — СССР; они попали в ловушку, застряв где-то между «империей зла» и «третьим миром», превратились в маргиналов среди историков Европы.
В конечном счете под давлением всех этих обстоятельств вывелся совершенно особый вид академической фауны. Его представители при написании своих трудов часто не могли вырваться из плена стилистических конструкций, характерных для официальных советских документов, пользовались языком для посвященных, злоупотребляли акронимами и круговыми ссылками друг на друга 28.
Им было удобно в их мирке — и потому так трудно сейчас приспосабливаться к куда более богатой, но и более неопределенной, более сложной постсоветской реальности. Если, к примеру, советский режим можно было без особых раздумий охарактеризовать как политически безнравственный, то с возобновлением в России публичных дебатов и политических баталий исторический дискурс, в основе которого лежало бы привычное противопоставление между последовательностью честного Запада и непостоянством заблудшей России, уже неуместен. Вдобавок постсоветская Россия утратила часть своего былого могущества, и это может сделать ненужным для Запада некоторые разновидности политического анализа. Нам будет все труднее сказать нечто, заслуживающее внимания; нам придется искать новые исследовательские приемы. Ничуть не легче и тем, у кого исследовательская программа изначально определялась социалистическими симпатиями. Где раньше они видели классовую борьбу, революцию и пролетарскую культуру, там теперь вышли на передний план и требуют исторического анализа совсем другие феномены: патриаршество, православие, антисемитизм и т.д.
Из-за чрезмерного акцента на идеологию западные историки делали тематические рамки своих исследований довольно-таки узкими. Исключение составляли работы, авторы которых намеренно избегали «сверхдержавной» тематики. Так, выделялись богатством содержания и новаторским характером крестьяноведческие труды. Исторические и иные исследования по гендерной проблематике тоже были во мно- гом избавлены от очевидной ограниченности сочинений советологов 30. Но все же в своем большинстве западные исследования были телеологическими, вытканы из одной ткани, все нити которой сплетались в рисунок, долженствовавший изображать современный СССР. И есть своя ирония в том, что нити разных цветов — отдельные темы внутри корпуса телеологических текстов — изначально подбирались по образцу, навязанному Советским Союзом.
В основном разрабатывались две темы — модернизация (коллективизация, индустриализация, рост городов и технологические изменения) и политическая система сталинизма (ее установление и общие очертания). Флаги либерализма и предопределения реяли над обеими темами. Более других к проповеди о предопределенности тоталитаризма в России были восприимчивы идейные борцы, подвизавшиеся на фронтах холодной войны. Но и так называемые ревизионисты, несмотря на все их потуги освободиться от влияния устарелого политического мышления, нередко оставались в плену историографического единообразия. Рассмотрение иных возможностей и в особенности проведение исследований, не укладывавшихся в скудный перечень «ключевых» тем, не пользовалось популярностью, а то и осуждалось. Люди, влияющие на общественное мнение, вообще были склонны не замечать книги о семье или фольклоре в СССР, так как упорно считали, что при изучении сталинизма все внимание должно уделяться массовым репрессиям 31.
Единственное, что можно противопоставить сочинениям, написанным в духе экономического и политического вигизма, так это исследования, базирующиеся на концепции особой политической культуры 32. Их авторы увидели преемственность там, где другие замечали лишь скачкообразную амплитуду изменений: пики и провалы революции, мозаику послереволюционных изменений. Это позволило им нарисовать более обобщенную (но и более упрощенную) картину. То был пейзаж, в котором господствовали фигуры великих деятелей: Ивана Грозного, Петра Великого, Ленина и Сталина. А обосновывалось это следующим доводом: есть нечто в русском национальном характере, что-то неуловимое в историческом наследии русских, что вновь и вновь заставляет историю России следовать одному и тому же образцу, в соответствии с которым периоды хаоса перемежаются периодами правлений сильных лидеров, осуществляющих модернизацию.
Идея особой политической культуры быстро получила широкий отклик — не в последнюю очередь благодаря ее видимой простоте. К тому же она наконец-то давала русским ощущение, что и они обладают национальной идентичностью. Неудивительно, что за последние пять лет она широко распространилась в России.
Вернемся, однако, к советологам. Ограниченность исследовательских ракурсов усиливала их маргинальное положение как раз в то время, когда другие отрасли истории быстро продвигались вперед. Складывается впечатление, что западные специалисты по истории СССР спорят о том, о чем другие историки спорили десятилетия назад. Так, концентрация на телеологии развития и навязчивое подчеркивание гипотетической нравственной ущербности русского национального характера историкам-германистам наверняка напомнят их старый спор об особом пути Германии (Sonderweg) — только на российском материале. Можно утешаться мыслью, что люди, занимающиеся историей России, имеют возможность учиться на чужих ошибках. Можно даже провести параллель с концепцией неравномерного экономического развития Александра Гершекрона: мол, у запоздавших в развитии больше шансов двигаться быстрее. Но на деле вряд ли стоит радоваться своему отставанию.
Ибо из-за него западным историкам России грозит опасность снова и снова изобретать велосипед. Допустим, им удастся не сбиться окончательно на разговоры об особом пути (до сих пор они воспроизвели лишь небольшую часть того, что было сказано на эту тему). Но трудно полностью справиться с искушением двинуться ускоренным шагом по дороге, проторенной коллегами в других областях. Сейчас идеологические оковы коммунизма разбиты вдребезги; стали доступны новые первоисточники; благодаря тому и другому специалисты по истории России получили, наконец, свободу поиска. Но из-за прежней изоляции и относительной бедности идей они не могут с толком распорядиться своей свободой. Среди компьютерных команд у нас нынче самая модная «Paste»: мы склеиваем наши файлы из кусочков, понадерганных отовсюду, — у постмодернистов и постструктуралистов, историков школы «Анналов» и психоаналитиков. Так новых путей в нашей области не сыскать. И прежде всего потому, что теории, взятые из вторых рук, никогда не бывают адекватны предмету исследования. Если историки России будут все время заимствовать чужие идеи, их предмет вечно будет пребывать в состоянии морального старения — совсем как экономика царской России. Еще более серьезна другая опасность — что они вообще будут избегать трудных проблем, обусловленных спецификой их предмета. У кризиса, постигшего историографию России, нет аналогов — и, чтобы найти четкую стратегию выхода из него, надо размышлять о нем, исходя из него самого.
Еще один хороший способ уйти от неудобных вопросов — это закопаться в архивы. Ни один историк не станет отрицать, что находки в архивах — непременное условие успешного исследования. Качество и разнообразие информации, открываемой в архивах, язык архивных документов и сама их форма — а тут мы сталкиваемся с записями, сде- ланными на папиросных коробках и на оборотной стороне плакатов, с захватанными потными руками отчетами из украинских деревень и с тщательно скопированными графиками, показывающими масштабы демографической катастрофы, — все это будит воображение историка. Но хотя архивные документы совершенно необходимы для того, чтобы писать полноценную историю, они не самодостаточны. В первые годы архивной лихорадки казалось, что главная задача состоит в том, чтобы развенчать образы прошлого, созданные под гнетом советской цензуры и под гипнотическим воздействием идеологии. И многое было подвергнуто необходимой переоценке почти что без усилий (хотя и не безболезненно). Но теперь появилась опасность, что с легкостью будут растранжирены возможности для исследований, предоставляемые архивами. И не только архивами, но и той свободой мысли, что стала возможной в России впервые за все это столетие.
И без того уже слишком много времени потрачено на заполнение пропусков в сценарии, следовать которому нет больше желания. Исчезло то, что оправдывало его существование, — развитое, индустриализированное, коммунистическое советское государство. Без него привычные вопросы сильно подрастеряли свой смысл. И уж точно быссмысленна их телеологическая формулировка. А мы, за редким исключением, не переменились — все еще склонны к использованию данные архивов для подкрепления старых доводов и для обоснования исследовательских проектов, задуманных до крушения коммунизма. Привлечение помощников из русских только усиливает эту склонность. Когда, с одной стороны, время — деньги, а с другой — помощник нуждается в том, чтобы им руководили, вопросы, которыми его будут нагружать, будут закрытыми вопросами. А это означает, что ничего концептуально нового ответы не дадут. Появится возможность добавить несколько сносок, тиснуть в журналах статью-другую; но с выработкой нового подхода к российскому прошлому придется опять подождать.
Архивы позволяют быть «на уровне», но не в них отыскивается понимание сути нынешнего вызова, бросаемого историкам историей России. Принципиальное значение имеет сейчас не новая информация, а способность ставить новые вопросы. И в чем роль архивов может оказаться действительно важной, так это в том, чтобы и задавались такие вопросы на русском языке, и ответы на них тоже произносились на русском.
III
Настало время сделать дополнительные разъяснения по поводу языка. Как я уже отмечала, советская цензура обеднила политические сочинения, написанные по-русски, в языковом отношении. В XIX веке русская интеллигенция не просто владела языками двух культур — европейской (тут она пользовалась главным образом французским и немецким языками) и родной русской, но и добивалась их плодотворного, хотя и мучительного, соединения. Латинизированный язык советской политики и советской истории оказался в целом бесплодным. Его слова и обороты — демократический централизм, коллективизация, класс, специалист и т.п. — были чужды русскому языку. Приходилось договариваться о том, как их понимать. Но и согласованные значения плохо соотносились с реальностью; наоборот, все знали, что эти и другие слова были придуманы для маскировки действительности, употребляются не столько для того, чтобы уточнить значение чего-либо, сколько для того, чтобы этого не сделать. Что это за штука такая — «демократический централизм» или, скажем, «демократизация» в мире политического террора, в условиях массовых репрессий? И как понимать значение слова «пролетарский» после того, как социальные пласты российского общества были радикально смещены в ходе десятилетнего сталинского переворота? Стоит задать эти вопросы, и становится ясно, что ублюдочная латынь да вульгаризованная немецкая политическая терминология использовались для сокрытия неудобных фактов 33.
Нелегко сломать привычку замалчивать таким образом правду. Но падение коммунизма обесценило привычные исторические метафоры. Если уже невозможно писать о «кулачестве как классе», если советский патриотизм оказывается химерой, если провалилась сама коммунистическая система, то тогда, чтобы рассказать об истории России в XX веке, надо искать новые слова и новые структуры текста. Из старых русских терминов лишь немногие пережили натиск сталинизма. Какие-то слова могут быть открыты заново — и здесь ключевую роль призваны сыграть архивы. Но в целом первая задача, стоящая перед историками России, — создать новый профессиональный язык и затем корректно пользоваться им. Пока его нет, вакуум заполняется переводными работами зарубежных ученых.
За вопросом о выборе слов скрывается вопрос межкультурного диалога, а также этическая проблема империализма. Возможно, я преувеличиваю опасность. Маловероятно, что Запад и дальше будет навязывать российским историкам круг приоритетных тем. Куда больше тревожит другое — что так и не удастся достичь взаимопонимания между западными и российскими учеными. В этом случае в на- илучшем положении в России окажутся изоляционисты, то есть сторонники такой версии истории, которая опирается на представление об уникальности русской культуры. Эта версия может привести к оправданию великорусского шовинизма. И ее потенциальная популярность уже очевидна.
Исторические дискуссии в России ведутся в основном между «западниками» и «славянофилами». «Западники» склонны утверждать, что Россия не так уж сильно отличается от Запада, что драма тоталитаризма входит в общий политический репертуар Запада, была разыграна на Западе (в нацистской Германии) и поэтому задача историков состоит в том, чтобы объяснить универсальный характер тоталитаризма и наглядно показать его опасности. Ну а следующий шаг, который надо будет сделать, — это усовершенствовать критику тоталитарной модели в целом, затем обсудить характерные особенности взаимоотношений государства и общества в СССР и установить причины той чрезмерности, что отличала тамошний тоталитаризм.
С либеральной точки зрения такой подход представляется взвешенным и гуманным. На Западе он неприемлем лишь для людей особой породы — для ветеранов холодной войны, и сейчас готовых твердить о специфической моральной несостоятельности России. Зато он наверняка найдет отклик у любого, кто знаком с недавними дискуссиями о холокосте. Иное дело Россия. Здесь версия национальной истории, основывающаяся на сравнении тоталитаризмов, при всех ее достоинствах не станет достаточной версией. Она ничем не сможет помочь людям, на развалинах империи пытающимся осмыслить, что же теперь представляет собой национальная идентичность России.
Теория тоталитаризма ничего не говорит о национальной идентичности и культурном своеобразии. А ведь именно эти две темы чаще всего обсуждаются в Москве — уж если не на научных семинарах, то на кухнях и политических митингах. Но там, где пасует теория тоталитаризма, вполне справляется теория революции сверху, в сердцевине которой лежит идея извечной (и все еще длящейся) исключительности России. Мало того, она предлагает выход из нынешних трудностей в виде очередной революции сверху и правления сильного харизматического лидера. Новое правоверие, формирующееся в среде русских правых, почти все держится на идее культурной преемственности. Как полагает Виктор Данилов, известные писатели, политики правого крыла и обслуживающие их историки просто заменили жесткую модель «экономический базис — политическая надстройка» на столь же жесткую, но гораздо более опасную модель, в которой все сводится к культуре. В то время как либеральным ученым не удается создать общедоступную версию российской истории, вульгаризаторы из рядов крайней правой определенно могут это сделать.
Есть такое русское слово «культурология». Наиболее экстремистские культурологические теории, появляющиеся в России, настолько заумны и неестественны, что западному человеку просто невозможно понять их содержание. Далее, сейчас стало модным изображать русских жертвами псевдокультуры или полагать, что опыт прошлого скрыт и поэтому проблема исторической ответственности неразрешима. Все это тоже вряд ли вызовет у нас сочувственный отклик. Но если мы просто не будем связываться со взглядами, нам чуждыми, они расцветут еще более пышным цветом. Опасность этого тем более велика потому, что мы не привыкли на равных обсуждать наши труды с российскими учеными. Нелегко изживать старые привычки. Да и польза диалога поначалу представляется неочевидной, поскольку, как уже говорилось, тексты, написанные русскими, трудно читать. Они оскорбляют наше чувство академической формы — и пока обстоятельства не заставят пересмотреть наше предвзятое отношение, мы так и будем думать, что мало проку в том, чтобы воспринимать эти тексты такими, какие они есть.
И все же, если оценивать ситуацию в долгосрочной перспективе, именно у Запада нет выбора. Ибо единственный способ возрождения советской истории — это смена парадигмы. Разумеется, западные историки могут и сами генерировать некоторые новые идеи. Но как и прежде, эти идеи будут адресованы не российской аудитории, а военным, политикам, идеологам на Западе. По мере уменьшения (или изменения) стратегической роли России будет падать и ее значимость как предмета исследований. А с утратой значимости предмета занятия им становятся бесплодными. Взлет исследований по истории России произойдет, когда мы начнем живо откликаться на то, о чем спорят в самой России.
Трагическим финалом деяний советской цензуры явился полный разрыв между культурой народа и работами ученых. Академическая история никак не соотносилась с жизнью, не была ни памятью, ни голосом народа. Рано или поздно народ снова обретет то и другое вне зависимости от того, что будем делать мы. Раз цензура снята, история не может больше обходить молчанием жгучие вопросы, волнующие общество, в котором и для которого эта история пишется. Взаимодействие между политической жизнью народа и научными исследованиями неизбежно рождает новые научные парадигмы — и скоро это произойдет и в России. Но какова будет форма полученного таким образом продукта, какую роль в его выработке сыграют западные специалисты, как, наконец, он может повлиять на наши коллективные размышления? Сейчас на уровень обобщения выходят дебаты о политических перспективах посткоммунистического мира. В связи с этим опять возникает вопрос: какую роль предстоит сыграть в них специалистам с таким владением языком и с такой научной подготовкой, которые необходимы для сотрудничества с российскими коллегами?
Мы — люди со стороны. Мы не должны жестко поддерживать какую-то одну точку зрения в России. Исторические идеи — не технологическое ноу-хау, Запад не может экспортировать их в Россию. Даже наш научный язык имеет ограниченную ценность. Но равным образом мы не можем и самоустраниться —под тем предлогом, что в культурном империализме есть нечто аморальное. Мы уже вовлечены в российские исторические дебаты. Наши сочинения и сочинения русских уже сплетены подобно виткам двойной спирали, наше прежнее вмешательство заставляет нас вмешиваться дальше.
Что мы должны делать сейчас? Финансирование исследований в России — это, по-видимому, самая легкая часть нашего обмена с русскими. Анализа требуют не столько технические вопросы, сколько философские аспекты ситуации. Что поставлено на карту, так это открываемая заново история России. А поскольку в ее фокусе неизбежно оказывается вопрос о степени уникальности культурных, социальных и политических традиций, о траектории их изменений, она включает в себя и историю национальной идентичности. Своеобразие России может быть описано в терминах, которые применяются во внутрироссийском (и потенциально фашистском) дискурсе. Или же оно может быть исследовано в ходе диалога с участием наблюдателей со стороны — из Европы и Америки. Как заметил Бахтин, «один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур» 34. Стоит только постепенно свести на нет наше доминирование, обеспечиваемое положением патронов, — и в предполагаемом диалоге мы сможем сыграть жизненно важную роль свидетелей (именно потому, что мы посторонние).
Но цена такого диалога велика. Ибо если мы не будем настаивать на своем превосходстве и перестанем сходу отказывать нашим собеседникам в обоснованности их позиции, нам придется навести порядок и в оценке нашей собственной работы. Тот же Бахтин писал: «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, какие она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины» 35. А в случае с Россией — по крайней мере в том, что касается ее конфронтации с Европой — картина еще более сложная. Россия не была изолирована от влияния европейской культуры. России должно быть возвращено место в Европе — не только по политическим и стратегическим соображениям, но и потому, что в ис- тории России есть уроки, роднящие ее с опытом Европы. Выявлены они могут быть только через сравнение, в контексте дискуссии, в которой участвовали бы и нероссийские историки. Так, русская революция была для левых чем-то необычайным, вроде иконы. Теперь это опровергнуто — и возникло много вопросов. Они уводят нас в 1789 год (и даже дальше), ставят под сомнение сами основания системы политических взглядов, господствующих в Европе да и во всем современном мире. А ведь русская революция была еще и прелюдией к некоторым наиболее чудовищным репрессиям и убийствам XX века... Так что процесс восстановления целых кусков российской истории не может не быть беспокоящим, выводящим из равновесия.
IV
Мы еще не в полной мере осознали мировое значение краха коммунизма. Люди на Западе, похоже, разделились на тех, кто верит в то, что либерализм окончательно восторжествовал — благодаря чему любая идеология в некотором роде принадлежит теперь прошлому, и тех, кто с трепетом замечает изъяны и пустоты в нашей собственной системе, обнажившиеся с поражением старого врага. «Демократия победила, — заметил в 1990 году Збигнев Бжезинский. — Но в чем заключается сущность наших убеждений теперь, после этой великой идеологической победы? Чему человек демократического Запада ныне глубоко предан?» 36. Вызов, созданный падением коммунизма, предполагает многое, много больше, чем переписывание советской истории. Он предполагает проверку верований, переоценку аксиом, обсуждение пределов и смыслов понятий, доживших до наших дней лишь потому, что им помогло продержаться противостояние между Востоком и Западом. Это не конец истории. Это начало нового диалога — быть может, самого захватывающего и самого важного за последние сто лет. И столь волнующим его делает реальная возможность того, что он, наконец, не будет ни односторонним, ни предвзятым, ни стесненным цензурой. Новый диалог с Россией открывает многообещающую перспективу десятилетий интеллектуальных новаций. Ее нужно сохранить любой ценой.
Список литературы Язык, патронаж и создание исторической парадигмы
- Steiner, George. After Babel: Aspects of Language and Translation. London, 1975.
- Swales M. Genre analysis: English in academic and research setting. Cambridge, 1990.
- Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры//Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1977. Т. 28. С. 3-36.
- Chatterjee Partha. Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse? London, 1986.
- Davies R. W. Soviet History in the Gorbachev Revolution. London, 1989;
- Marples David R. Kuropaty: The Investigation of Stalinist Historical Controversy//Slavic Review, summer 1994
- Kotkin Stephen. Terror, Rehabilitation and Historical Memory: An Interview with Dmitrii Iurasov//Russian Review, April 1992.
- Bremmer I. and Taras R. (eds.). Nations and Politics in the Soviet Successor States. Cambridge, 1993.
- Вопросы истории КПСС, 1989. № 2.
- Данилов В. П. Современная российская историография: в чем выход из кризиса?//Новая и новейшая история, 1993. № 6.
- Smith Steve. Writing the History of Russian Revolution after the Fall of Communism//Europe-Asia Studies, 1994. Vol. 46, № 1
- The Historical Journal, 1992. № 4; 1993. № 1
- Laqueur Walter. Stalin: The Glasnost Revelations. London, 1990. P. 235.
- Wheatcroft Stephen G. More Light on the Scale of Repression and Excess Mortality in the Soviet Union in the 1930s//Soviet Studies, 1990. Vol. 42, № 2.
- Merridale, Catherine. The 1937 Census and the Limits of Stalinist Rule//Historical Journal, 1996. March.
- Danilov V. Rural Russia Under the New Regime. London, 1988.
- Мerridale Catherine. Moscow Politics and the Rise of Stalin. London, 1990.
- Judt Tony. 1989: The end of what European era?//Daedalus, summer 1994.
- Eklof Ben and Frank Stephen P. (eds.). The World of the Russian Peasant: Post-Emancipation Culture and Society. London, 1990;
- Engelstein Laura. The Keys to Happiness. Princeton, 1993.
- Russian Review, 1986. Vol. 4. P. 399.
- Tucker Robert. What Time is it in Russian History//Merridale Catherine and Ward Chris (eds.). Perestroika: The Historical Perspective. London, 1991.
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. C. 334-335.
- Rupnik, Jacqes. Europe's New Frontiers: Remapping Europe//Daedalus, summer 1994. P 121.