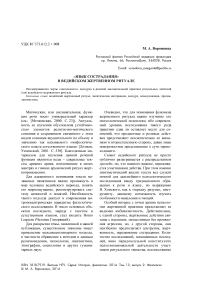"Язык сострадания" в ведийском жертвенном ритуале
Автор: Воронкина Маргарита Алексеевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются черты «магического» дискурса в речевой заклинательной практике ритуальных действий śanti ведийского жертвенного ритуала.
Ведийский жертвенный ритуал, эмпатическая интеракция, дискурс, коммуникация, прагмалингвистика
Короткий адрес: https://sciup.org/147219003
IDR: 147219003 | УДК: 81’373.612.2
Текст научной статьи "Язык сострадания" в ведийском жертвенном ритуале
Магическая, или заклинательная, функция речи носит универсальный характер (см.: [Мечковская, 2000. С. 23]). Актуальность ее изучения обусловлена устойчивостью элементов религиозно-магического сознания и сохранением связанного с этим видом сознания внушительного по объему и значению так называемого «мифологического пласта естественного языка» [Лотман, Успенский, 2001. С. 530]. Благодатным материалом для изучения данной речевой функции являются веды – сакральные тексты древних ариев, воплотившие в своих мантрах и гимнах архаический ритуал жертвоприношения.
Для адекватного понимания текста названных памятников важно проникнуть в мир человека ведийского периода, понять его мироощущение, реконструировать систему ценностей и понятий. Неизбежность такого подхода диктует и современная антропоцентрическая парадигма филологического исследования. В число основных объектов последнего, наряду с текстом и естественным языком, стал входить Homo Loquens (Человек Говорящий).
Для раскрытия темы, заявленной в нашей публикации, существенное значение имеет применение междисциплинарного подхода, в частности обращение к методам и данным религиоведения, психологии, лингвистики, этнографии, социологии и других гуманитарных наук.
Очевидно, что для понимания феномена жертвенного ритуала важно изучение его психологической подоплеки, ибо современный уровень исследования такого рода практики едва ли оставляет место для сомнений, что предметные и ролевые действия представляют исключительно ее внешнюю и второстепенную сторону, давая лишь поверхностное представление о сути происходящего.
Сюжет ведийского ритуала не просто публично разыгрывается с распределением «ролей», но, что намного важнее, переживается участниками действа. При этом именно лингвистический анализ текста вед служит почвой для дальнейшего психологического исследования ввиду традиционного обращения к речи и языку, по выражению Н. Хомского, как к «зеркалу разума», инструменту, дающему возможность изучать особенности мышления и эмоций.
Особый интерес с точки зрения психологии жертвенной практики представляет ее видимая амбивалентность. Действительно, с одной стороны, жертвенные действия связаны с насилием, немыслимым без проявления агрессии, но, с другой стороны, они неизбежно предполагают альтруизм, жертвенность, переживание сострадания. Количество исследований, посвященных последней, явно парадоксальной конституенте психоэмоциональной деятельности участников ритуального таинства, несопоставимо
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 2: Филология © М. А. Воронкина, 2014
меньше количества работ о ритуальной агрессии.
Ярким проявлением практики сострадания в ведийском жертвенном ритуале служит серия единообразных по содержанию фрагментов текста «Яджурведы» (веды яд-жусов ‘жертвенных формул’), получивших название śanti ‘успокоение’. Адресатами заклинаний выступают ритуальные предметы, подвергаемые в ходе церемонии насильственным действиям, под которыми ведийская традиция понимает нарушение целостности. Это не только жертва, но и дерево, срубаемое для жертвенного столпа, земля, раскапываемая для сооружения алтаря, зерно, которое перемалывается для жертвенного пирога, даже отдельные органы умерщвленной жертвы, например ее сальник. К каждому предмету жрец обращается в форме вокатива: о дерево , о яма , о топор (подробнее см.: [Hoens, 1951. Р. 271– 272]).
Психологическую основу упомянутых действий составляют элементы эмпатического взаимодействия участников таинства с его объектами на основе хорошо известного феномена анимистического сознания, в котором сакральные предметы ритуала олицетворялись, одухотворялись и обожествлялись, что и позволяло участникам действа идентифицировать их как объект эмпатии. Чрезвычайно характерное для знаменитой своим психологизмом ведийской духовной традиции переживание эмпатии по отношению к различным ритуальным объектам со временем получает свое осмысление на философском уровне и возводится в принцип tat tvam asi (‘ты есть то’).
Под эмпатией в психологии и психоанализе понимают «процесс контактирования с внутренним миром другого посредством воображения, настройка на вчувствование и постижение нюансов его переживания и личностного смысла» [Ягнюк, 2003]. «Быть в состоянии эмпатии, - пишет К. Роджерс, -означает воспринимать внутренний мир другого точно, с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков. Как будто становишься этим другим, но без потери ощущения “как будто”. Так, ощущаешь радость или боль другого, как он их ощущает, и воспринимаешь их причины, как он их воспринимает» [Rogers, 1975. Р. 2]. Иными словами, эмпатия предполагает способность к сопереживанию, сочувствию, реализуясь благодаря умению поставить себя на место другого.
Вместе с тем важно обратить внимание на опыт разработки в современной психологии методов эмпатической коммуникации. Внимания заслуживает именно взаимный характер такой интеракции, «способность понимать и проникать в мир другого человека, а также передавать ему это понимание» [Иган, 2000]. Целью такого взаимодействия является использование терапевтического потенциала эмпатии: «Адекватная эмпатия вызывает у клиента чувство, что его услышали, поняли ту или иную личностно значимую для него область внутреннего опыта, что, как правило, приводит к эмоциональному облегчению и обретению смысла» [Ягнюк, 2003]. При этом практикующими психологами и психотерапевтами особое внимание уделяется не только способности понять чувства клиента, но и умению достоверно и ясно передать ему свое понимание, в том числе и на вербальном уровне, так как без этого искомый терапевтический эффект не может быть достигнут. Неудачная формулировка может привести даже к негативным последствиям, например к переживанию непонятости, отчаяния, одиночества или к агрессии.
В этой связи интерес вызывают характерные особенности соответствующего дискурса ввиду явной близости последнего по своей прагматике упомянутым фрагментам текста ведийского ритуала. По аналогии с известным в лингвистике понятием «язык вражды» (англ. hate speech , букв. «речь ненависти») 1, с учетом справедливого замечания о том, что данный феномен точнее было бы определить не как «язык вражды», а как «речь вражды» [Денисова, 2009. C. 8], условно назовем обозначенный дискурс «языком сострадания».
Вербальное воздействие на жертвенный объект связано с представлением о магической силе слова заклинания, способного материализоваться и преобразовывать действительность. В основе таких представлений видят «неконвенциональную трактовку языкового знака», когда слово рассматривается не как условное обозначение предмета, а как его органическая часть [Мечковская, 2000. C. 22]. Таким образом, заклинание в мифопоэтическом сознании человека ведийского периода призвано магически преобразовы- вать ритуальный объект силой священного слова.
Желательное и повелительное наклонения, в которых представлены заклинания, устраняют последние сомнения в том, что попытки речевого воздействия на объект в них действительно имеют место. В пользу этого свидетельствует и отмечаемый исследователями суггестивный стиль ведийских мантр.
Произнося жертвенные формулы, направленные на «успокоение» ритуальных объектов, подвергаемых «насилию», а точнее, тех объектов, чья целостность нарушается в сакральном ритуале, жрец выполняет функции, генетически восходящие к шаманской практике. Как известно, одной из основных функций шамана являлось сопровождение души умершего или жертвы в иной мир. Для архаического сознания свойственна идея о том, что с физической смертью жертва, несмотря на трансформацию своей природы, покинув бренную оболочку, не прекращает существования. При этом, по-видимому, важным считалось передать ее адресатам жертвоприношения (ведийским богам) в максимально удовлетворительном «психологическом» состоянии. Для иллюстрации обратимся к тексту «Яджурведы», где имплицируется данное представление.
Когда жертвенное животное умерщвлено (путем удушения), совершается магический обряд «исцеления» (элиминации последствий насильственных действий): раны на его теле взбрызгиваются водой. При этом в тексте делаются некоторые комментарии ( брахманы ) и произносится следующее заклинание: Когда животное убито , мучение поражает его праны (органы дыхания. – М. В. ) . Когда он (жрец-заклинатель. – М. В .) говорит : « Да не причинится вреда его голосу , да не причинится вреда его дыханию », - так он освобождает его праны водой от мучения. Со словами : « Где бы тебя ни ранили , где бы ты ни был остановлен (т. е. убит. – М. В .), оттого становись очищенным , украшай себя для богов »,– так он сделал его не раненым , как бы его ни ранили , заставляя его уйти (убив его. – М. В .), что оно успокаивается (МС III, 10, 1).
Важно обратить внимание на диалоговую форму заклинаний (ср.: «Где бы тебя ни ранили, где бы ты ни был остановлен, от того становись очищенным, украшай себя для богов»). Ее выбор определяется свойст- венной ведийскому сознанию презумпцией коммуникации в ритуале жреца-заклинателя, в данном случае с умерщвленной жертвой, в других – с иными объектами.
Именно презумпция коммуникации позволяет вести речь о прагмалингвистических аспектах данных фрагментов ведийского текста, а следовательно, рассматривать «использование средств разных языковых уровней для достижения поставленной цели общения» [Матвеева, 2010. C. 3], а также устанавливать ожидаемый отправителем интеракциональный эффект на «получателя» сообщений.
Мы считаем, что, несмотря на очевидную интенцию сообщений, определяемую формой заклинания, – силой слова привести к магическим трансформациям объекта, – интеракционный эффект на адресата все же ожидается. Наше мнение основано, в частности, на употреблении обращений, которые, как считают, не только являются фати-ческими элементами коммуникации (т. е. предназначены для установления и поддержания контакта [Якобсон, 1975. C. 201]), но и рассматриваются как одно из средств влияния на сознание и поведение реципиента.
Еще более явный признак - использование эвфемизмов для понятий, связанных с насильственными действиями в отношении заклинаемого объекта. Так, лексема han ‘убить’ старательно избегается и заменяется в тексте эвфемистическими оборотами: ā sthāpayati ‘заставить остановиться’ и gamayati ‘заставить уйти’, а śamitŗ ‘успокоитель’ употребляется в тексте заклинаний по отношению к тому жрецу, который непосредственно умерщвляет животное. Эвфемизмы применяются и как десигнаторы для выражения таких понятий, как ‘умереть’, ‘схватить для принесения в жертву’, ‘привязать’ и др. Мы считаем, что употребление эвфемизмов исключительно для магических целей было бы избыточно, следовательно, они используются именно как средство, полагаемое адекватным для влияния на «эмоциональное состояние» адресата.
Проводя параллели с современной практикой терапевтического эмпатического взаимодействия, важно отметить обращение психотерапевта к эвфемизмам при вербализации им переживаний клиента с целью снятия нежелательного эмоционального эффекта актуализации травмирующих впечат- лений. Использование эвфемизмов отражает оптимальную линию речевого поведения, осуществляемую путем ослабления напряжения в реальной речевой ситуации или смягчении смысла фразы, отражающей происходящее. Иными словами, эвфемизмы в данном дискурсе представляют элемент особой речевой стратегии, направленной на элиминацию негативной аффектации реципиента, что и эксплицируется в самих фрагментах ведийского текста śanti ‘успокоение’. Ср. приведенный отрывок: так он сделал его не раненым, как бы его ни ранили, заставляя его, что оно успокаивается.
Конечная цель методики эмпатического взаимодействия терапевта с клиентом состоит в том, чтобы помочь пациенту сконцентрироваться на неосознанных травмирующих эмоциях и побудить его к дальнейшему их осмыслению и наиболее конструктивному переживанию.
Мы считаем, что отдельные черты описанной методики очень близки жреческой практике ведийского жертвенного ритуала и самим характером эмпатической интеракции, и даже отчасти ее целями, полагаемыми ведийской традицией: способствовать преодолению жертвой травмирующего перехода за грань жизни и смерти, сопровождать ее в этом пути, сочувствовать ей, облегчая ее страдания и утешая ее. Имеет место и некоторое совпадение отдельных приемов: отстраненная, смягченная эвфемистическими оборотами, но полная и точная вербализация происходящего: страданий, испытываемых жертвой.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
-
• в ведийской заклинательной практике велика роль эмоционально-экспрессивного фактора;
-
• вербальная сторона рассмотренных ритуальных действий носит коммуникативный характер;
-
• ее основной интенцией является воздействие на адресата с целью элиминации последствий ритуального насилия;
-
• основной прием рассмотренной ритуальной практики – эмпатическое взаимодей-
- ствие с адресатом коммуникации – на вербальном уровне выражается в подробном описании приписываемых жертве переживаний, смягченном наличием реноминатив-ных приемов (эвфимизации понятий, связанных с насилием).
«COMPASSON SPEECH» IN VEDIC SACRIFICIAL RITE
Список литературы "Язык сострадания" в ведийском жертвенном ритуале
- Денисова А. В. Дискурсивный аспект исследования лингвистической экспертизы (на материале «языка вражды»): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Краснодар, 2009. 24 с.
- Иган Дж. Базисная эмпатия как коммуникативный навык // Журнал практической психологии и психоанализа. 2000. № 1. URL: http://psyjornal.ru/.
- Кузнецова В. В., Соколова Е. Е. Свобода слова и язык вражды в российских СМИ // Социальные варианты языка: Докл. междунар. конф. Н. Новгород, 2004. С. 448-450.
- Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф - имя - культура // Лотман Ю. М. Семиосфера: Сб. науч. исслед. / Под ред. М. Ю. Лотмана. СПб.: Искусство СПБ, 2001. С. 525-543.
- Матвеева Г. Г. Предисловие // Начала скрытой прагмалингвистики: Сб. науч. ст. / Под ред. Г. Г. Матвеевой. Ростов н/Д, 2010. С. 3-4.
- Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика: Пособие для студентов гуманит. вузов и учащихся лицеев. 2-е изд., испр. М.: Аспект Пресс, 2000.
- Ягнюк К. В. Природа эмпатии и ее роль в психотерапии // Журнал практической психологии и психоанализа. 2003. № 1. URL: http://psyjournal.ru
- Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против»: Сб. науч. ст. / Под ред. Е. Я. Басина, М. Я. Поляковой. М.: Прогресс, 1975. С. 193-230.
- Hoens D. J. Śanti // I. Thesis. Utrecht: Univ. of Utrecht, 1951. P. 271-272.
- Rogers С. R. Empathic: An Unappreciated Way of Being // The Counseling Psychologist. 1975. Vol. 5. No. 2. P. 2-10.