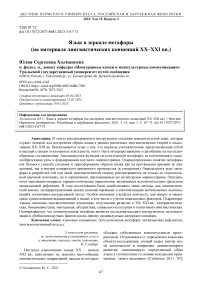Язык в зеркале метафоры (на материале лингвистических концепций XX-XXI вв.)
Автор: Холманских Ю.С.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются инструменты создания концептуальной идеи, которая служит основой для построения образа языка в рамках различных лингвистических теорий в языкознании XX-XXI вв. Высказывается тезис о том, что научные умозаключения, представляющие собой в высшей степени отвлеченные конструкты, могут быть интерпретированы и разобраны на нагляднообразные составляющие. Анализируется функция онтологической метафоры, ее когнитивная и смыслообразующая роль в формировании научного мировоззрения. Охарактеризовано понятие метафоры как базового способа создания и трансформации образов языка как на протяжении времени (в диахронии), так и внутри конкретного временного промежутка (в синхронии). Определяется роль метафоры в разработке той или иной лингвистической теории, рассматривается не только ее созидательный научный потенциал, но и ограничения, накладываемые ею на авторское мировоззрение. Описываются междисциплинарные терминологические пересечения, являющиеся вспомогательным средством метаязыковой рефлексии. В ходе исследования были задействованы такие методы, как лингвистический анализ, интерпретационный анализ (комментирование и систематизация метаязыковых высказываний), когнитивно-дискурсивный метод. Особое внимание уделяется контексту, как микро- и макросреде существования высказываний о языке, в том числе с учетом внеязыковых факторов. Охарактеризованы основные лингвистические концепции, получившие развитие в XX-XXI вв.: материалистическая, бихевиористская, ментальная, абстрактная, социально-культурная и когнитивно-лингвистическая. Подчеркивается, что концептуальная метафора является исследовательским инструментом систематизации и обобщения научных фактов сквозь призму индивидуально-авторского видения.
Языковые концепции, онтологическая метафора, метаязыковая рефлексия, лингвокогнитивный подход
Короткий адрес: https://sciup.org/147241909
IDR: 147241909 | УДК: 81’22 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-3-67-73
Текст научной статьи Язык в зеркале метафоры (на материале лингвистических концепций XX-XXI вв.)
У языка нет рукояток, но люди пытаются ухватиться за него и отметить знаками, чтобы запомнить.
К. Сэндберг
Исследуя языкознание конца XX – начала XXI вв., невозможно не заметить многообразие лингвистических направлений, каждое из которых обладает собственным концептуальным пространством. Отталкиваясь от определения языка как объекта исследования, ученый задает вектор своей деятельности и направляет дисциплинарное развитие, «канонизирует определенный образ языка в соответствии со своими исходными принципами, своим видением» [Сабитова 2011: 92].
Как отмечает В. З. Демьянков, образы языка можно трактовать двояко: как «образы, которые принимает язык, в которых он предстает перед нами», и как «образы, которые принимают иные сущности и в которых мы их принимаем за язык» [Демьянков 2014: 12]. Предметом нашего исследования является образ языка в его собственно лингвистической интерпретации, его восприятие через призму той или иной научной теории, существовавшей в англоязычном языкознании XX – начала XXI в. Антропоцентрическая парадигма вернула человеку статус «меры всех вещей», обозначив язык как «антропологический феномен» [Кубрякова 1995: 136]. В результате, возникшие в ходе академических дискуссий концепции становятся темой живых общественных размышлений и отчасти формируют представления людей о своем языке и отношение к нему. Как и любая деятельность человека, лингвистика нуждается в рефлексии, и для этого обращается к вопросам собственного языкового кода, как описательного инструмента и результата познания. Особое значение приобретает «метаязыковая осведомленность» как «способность сознательно размышлять о природе языка» [Bialystok, Bouchard 1985: 229]. Метаязыковую рефлексию мы понимаем в широком смысле, как «всякий метаязыковой контекст, реализующий (эксплицитно или имплицитно) метаязыковое суждение о любом факте языка / речи (а не только о слове или выражении)», который позволяет описать сущность лингвистических явлений, выявить их онтологические черты и адекватно истолковать их [Шумарина 2011: 14].
Индивидуальный поиск когнитивных признаков таких многомерных абстрактных конструктов, как язык, неизбежно сталкивается с онтологической метафорой, при этом «метафоризация металингвистических практик не сводится к обыденному дискурсу <…> ученые также часто используют исторически и культурно укоренившиеся метафоры для оформления или объяснения своих открытий» [Jakobs, Hüning 2022]. Ученые-языковеды непременно сталкиваются с метафорой, поскольку она является одним из важнейших приемов восприятия и концептуализации окружающего мира. Под концептуальной метафорой понимаются «ментальные многомерные (топологические) проекции (существующие как нейронные связи) между понятийными областями», развиваемые на основе речемыслительных процессов [Кульчицкая 2013: 124]. В основе механизма онтологической метафоры лежат познавательные алгоритмы человеческого сознания, которые позволяют применять сведения об уже знакомой области к структурированию другой концептуальной сферы, а именно «событие, дей- ствие, эмоция, идея и т. д. видится как сущность или субстанция» [Лакофф 2004: 25]. Такая когнитивная схема более всего характерна для отвлеченных концептов (каковым и является язык), при этом «проекция конкретных структур знания на абстрактные происходит на основе аналогии, сходства и сравнения элементов отдельных концептуальных сфер и естественным образом способствует формированию многих абстрактных категорий» [Новицкая 2019: 76]. Подобный когнитивный опыт можно рассматривать как «готовность к движению между концептами, подразумевая, что неотъемлемые черты того или иного концепта нельзя рассматривать как само собой разумеющиеся» [Cazeaux 2007: 197].
Как отмечали И. А. Стернин и З. Д. Попова, в строении концепта выделяются обязательные базовые компоненты – образ, информационное содержание и интерпретационное поле. Присутствие наглядного образа объясняется «нейролингвистическим характером универсального предметного кода: чувственный образ кодирует концепт, формируя единицу универсального предметного кода» [Попова, Стернин 2007: 75]. Хотя абстрактные концепты, в том числе и металингвистические понятия, в отличие от конкретных предметов, не имеют общепринятых образов и лишены физических свойств, в них, тем не менее, «просвечивает перцептуальное начало» [Кубрякова 2012: 148].
В работе предпринята попытка установить, до какой степени метафора вовлечена в формирование той или иной лингвистической теории, рассматривается не только научный потенциал этого явления, но и то, насколько оно «ограничивает мировоззренческие структуры языковых концепций» [Jakobs, Hüning 2022]. Попыткам определить столь сложный абстрактный объект, как язык, посвящены многие языковедческие и философские работы. Сформировавшиеся в ходе научных изысканий концепции порой перекликаются, а зачастую в корне отличаются друг от друга. Уподобляя концепции продаваемым на метафизическом рынке товарам, лингвист Р. Ф. Бота пишет: «Что касается форм, то язык преподносится как вещь, продвигается как процесс, описывается как процедура, выставлен на аукцион как действие, порицаем как форма, продается как система и предлагается как средство <…> Что касается происхождения, к концепциям языка прилагаются всевозможные верительные грамоты, помеченные как аристотелевские, платоновские, картезианские, гумбольдтовские, грамоты Соссюра, Блумфилда, Сепира, Витгенштейна, Хомского и так далее» [Botha 1992]. Предложенная еще Ф. де Соссюром классификация лингвистических наук предполагает суще- ствование внешней (экстралингвистические, социальные факторы) и внутренней лингвистики (собственно языковая система) [Соссюр 1999: 27]. Действительно, начиная с XX в. взгляды на сущность языка меняются под воздействием интердисциплинарного подхода: на восприятие предмета влияют не только открытия наук общегуманитарного цикла (философия, семиотика, психофизиология, культурология, социология и др.), но и новейшие положения физико-математических теорий и естественнонаучных исследований. Расцвет междисциплинарных лингвистических изысканий связан с «головокружительными изменениями в хаосе квантовых и геномных теорий, в нейрофизике мозга и репродуктивных биотехнологиях, а также в поисках Теории Всего (the Theory of Everything)» [Deming 1998]. Стоит отметить, что и металингвистические метафоры «были – и до сих пор – встроены в специфические социокультурные контексты, которые не могут быть сведены просто к дискурсам внутри одной дисциплины» [Jakobs, Hüning 2022].
По мнению Р. Ф. Бота, среди наиболее распространенных в рассматриваемое время взглядов на язык можно выделить те, которые представляют его как по существу материальный объект, поведенчески обусловленную субстанцию, биологический феномен, абстрактный конструкт или культурно-социальное явление [Botha 1992: 13]. Представление о языке как материальном, физическом явлении, в частности, слышимом (колебания звуковых волн) и видимом (письменные символы), принято связывать с учением американского лингвиста Л. Блумфилда, являющимся частью американской дескриптивной лингвистики. Блумфилдианское направление в американском языкознании в той или иной степени развивали З. Харрис, Дж. Трейд-жер и др. В целом язык воспринимается как множество высказываний соответствующей группы, «совокупность речевых форм как реакций на стимулы» [Березин 2001а: 10]. Материалистическая (механистическая) теория уподобляет изучение лингвистических закономерностей изучению физики или химии, поскольку ученый имеет дело с наблюдаемой речевой реальностью, а сам язык – инструмент адаптации к окружающей среде, направленный на удовлетворение потребностей [Блумфилд 2010]. Язык связывает участников коммуникации: «Пространство между их нервными системами время от времени соединяется “мостом” – звуковыми волнами, которые они издают и слышат» [Botha 1992: 5]. Каждый языковой аспект либо обладает очевидными физическими свойствами, либо может быть сведен к ним, поэтому его любая ментальная характери- стика сомнительна. Такая модель характеризуется «сведением коммуникативной функции языка к цепи стимулов и реакций, а социальной природы языка – к процессам одного порядка с биологическими процессами» [Березин 2001б: 64].
Образ языка, вырисовывающийся из следующей концепции, пост-блумфилдианской по характеру, можно описать словами К. Л. Пайка: «язык – это поведение, то есть этап человеческой деятельности <…> Вербальное и невербальное поведение представляет собой единое целое <…> вербальные и невербальные компоненты могут периодически заменять друг друга» [Pike 1967: 26]. В рамках бихевиористской теории язык – это система индивидуальных и социальных привычек, управляющая языковым поведением (У. Куайн, Ч. Хокетт, Р. Холл и др.). На протяжении жизненного опыта словесные реакции находят свое подкрепление или неподкрепление, образуя устоявшиеся, автоматически воспроизводимые языковые формы, характерные для различных ситуаций. Таким образом, человек оперирует не просто отдельными словами, а их конкретными комплексами и контекстами, в которых они употребляются.
Противоположная бихевиористской концепция видит язык как ментальную способность, особое состояние ума, обладающую творческим потенциалом. Данный взгляд ассоциируется прежде всего с основоположником генеративного направления в лингвистике Н. Хомским и его последователями, высказавшими мысль о том, что язык – подобие когнитивной системы, представленной в сознании конкретного индивида, а языковые универсалии являются генетически детерминированным аспектом человеческого мозга. Лингвистическая теория Н. Хомского предполагает, что люди рождаются с врожденной способностью изучать язык, следовательно, факторы окружающей среды и когнитивные предпосылки сами по себе не могут оправдать скорость и способность к овладению языком, наблюдаемым в детстве в соответствующие сензитивные периоды.
Тот факт, что языковая способность заложена биологически, не противоречит возможности ее творческого использования, поскольку она не ограничена рамками повторяющихся ситуаций. Считая язык ключом к мышлению, Н. Хомский пишет: «исследование языка вполне может <…> предложить весьма благоприятную перспективу для изучения умственных процессов человека» [Хомский 1972: 115] Однако, признавая ментальность языка, Н. Хомский не приписывает ему отсутствие пространственных, временных или причинных характеристик и призывает «приравнять изучение языка к изучению основного кор- пуса естественных наук» [Clark, Toribio 2012: 1]. Таким образом, лингвист выдвигает предположение об абстрактных свойствах языка, пока не доказанных научной логикой, чтобы впоследствии сделать выводы относительно истинности данных утверждений.
Еще одним представлением о языке, базирующимся на идеях Платона, является его трактовка как абстрактного объекта. Понимание языка как «объективной, вневременной, лишенной локализации в пространстве сущности, которую мы обнаруживаем и изучаем», интуитивно или при помощи разума, характерно для теорий Дж. Катца, П. Постала, Т. Бевера и др. [Katz 1997: 23]. Образ языка конструируется на фоне проблемы универсалий – полемики двух философских традиций, зародившейся в эпоху Средневековья: номинализма и реализма. Первая считает интеллигибельные понятия, такие как язык, продуктами человеческого мышления, имеющими тот же статус, что и мысли, ментальные образы и сны. В рамках второй существование универсалий столь же правдоподобно, как бытие физических тел, просто это иная онтологическая форма реальности [Бразговская 2006: 56–57]. Такое истолкование языка можно сравнить с математическим представлением о числах: лишенные пространственного и временного расположения, они не имеют как таковых материальных свойств и неизменны по характеру. По утверждению Дж. Каца, «подобно математику, лингвист видит свою задачу в построении теории, раскрывающей структуру множества абстрактных объектов» [Katz 1981: 212–213]. Поскольку они не являются частью субъективного, сознательного опыта человека, о них ничего нельзя узнать посредством интроспекции. Также они не способны оказать причинно-следственного воздействия на чувственное восприятие, и, следовательно, в познании языка нужно полагаться на интуитивный опыт.
Описание языка как социально-культурного продукта присуще концепции Э. Сэпира и Б. Уор-фа. Согласно этому взгляду, язык не является биологическим качеством и обладает вариативностью, а его формы, усваиваемые с рождения, функционируют как согласованно принятые обществом символы референции пережитого опыта (“language is a perfect symbolism for experience”) [Sapir]. Язык – это фактор социализации и объединения людей, «средство для переработки всех отсылок и значений, на которые способна данная культура» [ibid.]. Он не только отсылает к опыту и интерпретирует его, но и участвует в его формировании и замещении, что позволяет людям преодолевать границы индивидуального восприятия и впитывать общепринятое понимание дей- ствительности, т. е. культуру. Таким образом, язык может служить материалом для бессознательного выстраивания картины окружающего мира. Как отмечает Ф. М. Березин, «Сепир проводит мысль о том, что не многообразная объективная действительность выражается в мышлении людей одинаковыми логическими категориями, а различные языковые формы по-разному членят языковую действительность» [Березин 2001а: 8].
Кроме вышеперечисленных понятий о языке достаточное распространение в американском языкознании получила когнитивно-лингвистическая модель (М. Джонсон, Дж. Лакофф, Р. Лан-гакер, Л. Талми и др.), в соответствии с которой язык мыслится как система получения, интерпретации и накопления знаний человека об окружающем мире. Языковые исследования, соответственно, должны принимать во внимание социокультурный фон и личный опыт человека, влияющие на концептуализацию им реальности. Одним из базовых принципов такой трактовки языка является тот факт, что он «не поддается алгоритмическому описанию через множество элементов и правила сочетания этих элементов друг с другом, так как языковая способность непосредственно обусловлена психической организацией человека» [Скребцова 2000: 10]. Кроме того, по замечанию Т. Г. Скребцовой, когнитивная лингвистика придавала большое значение изучению образных средств языка, передающих организацию мышления.
Таким образом, ученые представляют концепции в виде конкретных языковых образов, построенных на онтологической метафоре, что, по мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, является ключевым способом уловить и описать явления высокой степени абстракции, каким является язык [Лакофф, Джонсон 2004]. В частности, биологическая концепция языка уподобляла его материальному физическому явлению – живому организму; бихевиористская теория рассматривала язык как систему поведенческих привычек, реализуя метафору деятельности; для структурного языкознания базовой явилась метафора языка как многоуровневой структуры; для генеративного направления характерна инструментальная метафора языка как порождающего творческого устройства; для теории Дж. Катца применима метафора языка как ментальной сущности, обнаруживаемой интуитивно; концепция Э. Сэпира и Б. Уорфа понимает язык как социально-культурный продукт, руководство к культуре носителей, в то время как в рамках когнитивно-лингвистической модели язык метафорически понимается как пространство мысли, вместилище, где овеществляется концепт. При этом в рамках каждой онтологической модели может происходить «множественная концептуальнометафорическая репрезентация, когда один метафорический концепт распадается на целый ряд концептуальных метафор» [Беляевская 2018: 541]. Подводя итог всему сказанному выше, процитируем слова английского лингвиста Р. Ласса: «мы настолько погружены в собственный метаязык, что можем не заметить, насколько он метафоричен и как важны метафоры как средство создания границ нашего мышления» [Lass 1997: 41]. Это важнейший инструмент получения знаний, имеющий эвристическую ценность для лингвистических исследований, поскольку позволяет строить новые гипотезы и формировать актуальную научную теорию.
Список литературы Язык в зеркале метафоры (на материале лингвистических концепций XX-XXI вв.)
- Беляевская Е. Г. О внутренней структуре концептуальной метафоры // Когнитивные исследования языка. 2018. № 32. С. 540-548.
- Березин Ф. М. Основные этапы развития американской лингвистики в XX в. // Американские лингвисты ХХ в.: сб. обзоров. М.: РАН ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. языкознания, 2001а. С. 4-35
- Березин Ф. М. Леонард Блумфилд / Американские лингвисты ХХ в.: сб. обзоров // РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. языкознания. М., 2001б. С. 57-78
- Блумфилд Л. Язык / пер. с англ. В. П. Мурат, Е. С. Кубряковой; ред. М. М. Гухман. М.: Либро-ком, 2010. 608 с.
- Бразговская Е. Е. Референция и отображение (от философии языка к философии текста): монография. Пермь: Изд-во ПГПУ, 2006. 192 с.
- Демьянков В. З. Образы языка в контрастив-ном освещении // Критика и семиотика. 2014. Вып. 2. С. 11-20.
- Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца ХХ века / под ред. Ю. С. Степанова. М.: Ин-т языкознания РАН, 1995. С. 144-238.
- Кубрякова Е. С. В поисках сущности языка: Когнитивные исследования / Ин-т языкознания РАН. М.: Знак, 2012. 208 с.
- Кульчицкая Л. В. Когнитивная метафора -концептуальная метафора - метафорическая модель: онтологический статус понятий // Личность. Культура. Общество. 2013. Т. XV. Вып. 1. № 77. С. 117-124.
- Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / пер. с англ. А. Н. Барановой, А. В. Морозовой. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.
- Новицкая И. В. Теория концептуальной метафоры и развитие альтернативных концепций в рамках когнитивного направления метафорологии (по материалам современной англистики) // Язык и культура. 2019. № 46. С. 76-101.
- Попова З. Д., Стернин И. А. Семантико-когнитивный анализ языка. Воронеж: Истоки, 2007. 250 c.
- Сабитова З. К. Лингвистические образы языка XXI века // Вопросы когнитивной лингвистики. 2011. № 1(26). С. 92-97.
- Скребцова Т. Г. Американская школа когнитивной лингвистики: монография. СПб., 2000. 202 с.
- Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / пер. с фр. А. Сухотина, Т. Де Мауро; ред. Н. В. Чапаева. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. 432 с.
- Шумарина М. Р. Язык в зеркале художественного текста (Метаязыковая рефлексия в произведениях русской прозы): монография. М.: Флинта: Наука, 2011. 328 с.
- Хомский Н. Язык и мышление / пер. с англ. Б. Ю. Городецкого. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. 123 с.
- Bialystok Е., Bouchard Ryan E. Toward a Definition of Metalinguistic Skill. Merrill-Palmer Quarterly. Vol. 31, No. 3 (July 1985). P. 229-251.
- Botha R. P. Twentieth Century Conceptions of Language: Mastering the Metaphysics Market. Oxford; Cambridge: Blackwell, 1992. 349 p.
- Cazeaux C. Cognitive Metaphor and Continental Philosophy: From Kant to Derrida. New York: Routledge, 2007. 240 p.
- Clark A., Toribio J. Language and Meaning in Cognitive Science: Cognitive Issues and Semantic theory. N. Y.: Routledge, 2012. 312 p.
- Deming A. H. Science and Poetry. A View from the Divide. Creative Nonfiction. 1998. № 11. URL: https://www.creativenonfiction.org/online-reading/ poetry-and-science-view-divide (дата обращения: 23.01.2022)
- Jakobs М., Hüning М. Scholars and their Metaphors: on Language Making in Linguistics. International Journal of the Sociology of Language. 2022. № 274. URL: https://www.degruyter.com/document/ doi/10.1515/ijsl-2021-0017/html (дата обращения: 23.01.2023).
- Katz J. J. Language and other Abstract Objects. Totowa, N. J.: Rowman and Littlefield, 1981. 251 p.
- Lass R. Historical Linguistics and Language Change. (Series: Cambridge Studies in Linguistics, 81). Cambridge University Press, 1997. 448 p.
- Pike K. Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior. Berlin: Mouton, 1967. 730 p.
- Sapir E. Language. URL: https://brocku.ca/Mead Project/Sapir/Sapir_1933_a.html (дата обращения: 14.02.2022).