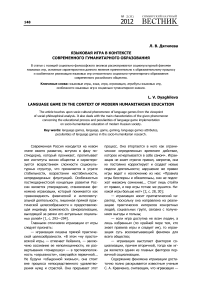Языковая игра в контексте современного гуманитарного образования
Автор: Дягилева Лариса Владимировна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 2 (8), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье с позиций социально-философского анализа рассматривается социокультурный феномен языковых игр, основные характеристики данного явления применительно к образовательному процессу и особенности реализации языковых игр относительно социально-гуманитарного образования современного российского общества.
Языковые игры, язык, игра, играизация, атрибуты языковых игр, особенности языковых игр в социально-гуманитарном знании
Короткий адрес: https://sciup.org/14113642
IDR: 14113642
Текст научной статьи Языковая игра в контексте современного гуманитарного образования
Современная Россия находится на новом этапе своего развития, вступая в фазу постмодерна, который проникает, пропитывает все институты жизни общества и характеризуется возрастанием сложности социокультурных структур, что проявляется в утрате стабильности, возрастании нестабильности, непредвиденных флуктуаций. Особенностью постмодернистской концепции развития России является утверждение, становление феномена играизации, который понимается как «разновидность физической и интеллектуальной деятельности, лишенная прямой практической целесообразности и предоставляющая индивиду возможность самореализации, выходящей за рамки его актуальных социальных ролей» [1, с. 293—294].
Главными отличиями играизации от игры следует признать:
-
— играизация лишена прямой практической целесообразности. «В этом «ну просто» всякой игры, — отмечает Хейзинга, — заключено осознание ее неполноценности, ее развертывания «понарошку» — в противоположность «серьезности», кажущейся первичной... Не будучи «обыденной жизнью», она стоит вне процесса непосредственного удовлетворения нужд и страстей. Она прерывает этот
процесс. Она вторгается в него как ограниченное определенным временем действие, которое исчерпывается в себе самом». Играи-зация не знает строгих правил, напротив, она их постоянно корректирует и создает новые модели деятельности; нарушение же правил игры ведет к исключению из нее: «Правила игры бесспорны и обязательны, они не подлежат никакому сомнению... Стоит лишь отойти от правил, и мир игры тотчас же рушится. Никакой игры больше нет» [2, с. 28, 30];
-
— играизация носит прагматический характер, поскольку она направлена на реализацию практических интересов конкретных людей, социальных групп, связана с получением выгоды и пользы;
-
— если игра доступна не всем людям, а лишь избранным (по крайней мере тем, кто знает правила игры и следует им), то играи-зация суть всеохватывающий феномен для всего общества;
-
— играизация выступает фактором социализации, причем вторичной, тогда как игра является одним из главных факторов первичной социализации.
Содержание феномена играизации достаточно полно раскрывается известным ученым С. А. Кравченко, считающим, что играизация — это существенная реакция общества на жизненные новации, происходящие в современном социальном бытии. В частности, содержательную экспликацию он трактует как: «1) внедрение принципов игры, эвристических элементов в прагматические жизненные стратегии, что позволяет индивидам посредством саморефлексии достаточно эффективно выполнять основные социальные роли, адаптироваться к «обществу в действии»; 2) новую, формирующуюся парадигму рациональности, характерную для современных условий неопределенности, распространения институциональных рисков; 3) фактор конструирования и поддержания виртуальной реальности неравновесного типа; 4) социологическую парадигму с теоретико-методологическим инструментарием, позволяющим анализировать постмодернистское общество» [3, с. 143—144].
В последние годы подвержен кардинальным структурным и содержательным трансформациям такой важный российский социальный институт, как образование. Кроме того, меняется и сущностная характеристика этого социального института, превращающегося в своего рода социальный канал по предоставлению услуг, выполняя при этом основную функцию — социализации членов социума. Институт образования всецело подвержен играизации, которая обусловливает изменения в образовании не только со стороны внешних факторов, но и внутренних причин, самой социальной образовательной структуры.
Яркие проявления играизации наблюдаются в изменении структуры всей системы образования (переход на Болонскую систему), в создании образовательных программ в целях эффективного взаимодействия участников образовательного пространства, в формировании социально-культурных установок на повышение качества образования (введение ЕГЭ было направлено на повышение объективности, качества оценки знаний).
Стремительное развитие нынешнего информационного общества («общества знаний»), сопровождающееся становлением института играизации, отражается в динамично эволюционирующем знаково-символическом пространстве и прежде всего в языке, который выступает необходимым средством функционирования и развития играизации как социального явления.
Язык формирует картину мира, точнее сказать, картины мира. Для понимания общей концепции речевой практики базовой является логическая модель Л. Витгенштейна «язык — логика — реальность», представленная им в 1921 году в «Логико-философском трактате».
Встроенность языка в реальную жизнь, которая весьма изменчива и подвижна по сути своей, предполагает постоянное соотношение разнообразных и разнопорядковых субъект-субъектных коммуникативных отношений с богатым контекстуальным континуумом.
Как следствие, появляются языковые игры, которые можно трактовать как некие постоянно варьирующиеся образцы или модели функционирования, проявления языка. Языковые игры полифункциональны: это понятие, фиксирующее определенные реалии; это социальное явление, включающее все системы коммуникации; это методологический принцип взаимодействия в социальных практиках.
Для уяснения сущности языковых игр необходимо обратиться к анализу соотношения языка и мышления, индивидуального и интерсубъективного в деятельности, дискурсивного и интуитивного, внутреннего плана сознания индивида и внешнего проявления его в действии.
Языковые игры динамичны, как динамичен и сам язык, функционирующий в коммуникативной практике. Как всякая игра, они должны осуществляться по определенным правилам, с одной стороны, а с другой — жесткая подчиненность требованиям игрой уже назвать сложно.
По мнению Л. Витгенштейна, языковые игры выступают в качестве упрощенных способов, приемов, средств употребления языка, что позволяет понимать более сложные случаи языкового отражения действительности. В частности, он отмечает, что языковые игры являются более простыми способами употребления знаков по сравнению с теми, которые мы применяем в рамках сложного повседневного языка.
Важным методологическим моментом является признание неразрывной связи языковых форм с реальной практикой людей, с их жизнедеятельностью. «Языковой игрой я буду называть также целое, состоящее из языка и действий, в которые он вплетен» [4, § 7], — указывает Л. Витгенштейн. Единство «мысли — слова — действий» в определенных жизненных обстоятельствах и составляет сущность языковой игры.
Используя методологический принцип восхождения от абстрактного к конкретному, следует подчеркнуть, что языковые игры выступают первичной абстракцией, простейшей формой, позволяющей понимать более сложные, зрелые языковые формы. Развитие языка в целом осуществляется по пути: элементарные образцы речевых практик (языковых игр) — надстройка более зрелых речевых форм с использованием искусственных языков — усложнение языковых игр. В результате наблюдается процесс усложнения, дифференциации самих языковых игр.
Языковые игры многообразны, и это многообразие обусловлено объективным богатством реальной действительности. Появление новых предметов, процессов, явлений порождает новые формы, типы языка. Например, мир динамично развивающегося информационного общества вызывает к жизни новые языковые формы, требует соответствующего языкового закрепления в концептуальноречевых практиках.
Языковые игры, их содержание варьируются в зависимости от контекста. Одна и та же информация может восприниматься по-разному: в зависимости от того, что выступает предметом интереса, к примеру, само содержание сообщения или же субъект, передающий его.
Языковые игры применительно к образовательному процессу имеют ряд атрибутов, среди которых основными являются:
-
— во-первых, признание определенной свободы действий субъектов коммуникации, так как принуждение, навязывание кому-либо чьей-то воли является непозволительным.
При этом степень вариативности языковых игр определяется свободой субъектов языковых практик в ходе моделирования неограниченного количества случаев, где акцент делается на рациональной или эмоциональной, вербальной или невербальной сторонах, отражающих разнообразные нюансы поведения людей.
Свобода действий в образовательном пространстве может быть ограничена лишь запасом знаний как у субъектов, так и объектов процесса обучения и воспитания, а также степенью ответственности тех и других в ходе взаимодействия по передаче — усвоению знаний, овладению навыками, умениями, формирования личностных качеств;
-
— во-вторых, языковая игра связана с выходом за рамки обыденной жизни, поскольку она (игра) не связана непосредственно с удовлетворением первичных потребностей индивида. Но как регулярно повторяющееся языковое разнообразие, языковая игра суть феномен — действие само в себе, совершающееся для удовлетворения духовных потребностей личности, для ее индивидуального самовыражения. Украшая жизнь, заполняя ее разными смыслами, языковая игра реализует культурную (в широком смысле) функцию. Поскольку процесс обучения человека выходит за рамки обыденного познания, это скорее научноориентированное (по крайней мере посредством научных знаний) познание, то в образовательном процессе языковые игры используются, иногда даже неосознанно, широко;
-
— в-третьих, языковая игра имеет определенные пространственно-временные рамки. Она ими отграничена от иных действий, процессов, явлений. Выступая культурной формой передачи знания, она характеризуется повторяемостью в целом и структурой в частности (повторы, чередования языковых элементов), а также разнообразием, дополнением, внесением новых свойств, которые делают игру содержательно всякий раз иной.
Игровое пространство, коим является в вузе учебная аудитория, лаборатория и т. д., для языковой игры обязательно. Оно составляет некую освещенную территорию со своими правилами игры, посредством чего происходит упорядочивание мира игры, эстетизация и гармонизация временного мира языковой игры в обычном мире;
-
— в-четвертых, языковая игра в процессе обучения и воспитания студентов проявляется со стороны педагога в двух аспектах. С одной стороны, преподаватель в ходе игры состязается, борется за аудиторию, если можно так сказать, за ее внимание, интерес к своей личности, к проблеме через языковую практику, пытаясь всячески сделать понимаемой, доступной и при этом интересной транслируемый материал. А с другой стороны, педагог стремится утвердиться в этой языковой игре как лидер, который знает данный материал лучше других, настойчиво и искренне желает поделиться имеющимися у него знаниями с обучаемыми.
Стержнем языковой игры выступает использование отличного от обыденного языка категориально-понятийного аппарата науки, с помощью которого обучаемые контекстуально встраивают имеющиеся у них знания в профессионально ориентированную практику.
В условиях реализации принципов гуманизации и гуманитаризации образования усиливается внимание к блоку социальных и гуманитарных дисциплин. Представляется важным отметить особенности языковых игр применительно к освоению социально-гуманитарного знания:
-
— наличие личностной позиции преподавателя в отношении событий общественной жизни, что делает вариативность языка по сути персонифицированной;
-
— преподаватель не только обучает студента, используя свой язык, но и учится его языку, в противном случае «языковая разноголосица» не позволит понять друг друга, найти общие точки соприкосновения и не будет способствовать культурному становлению обучаемых. Языковые барьеры, вызванные незнакомым языком, — а молодежь разговаривает и пишет в виртуальном пространстве на своем языке — в большей степени приводят к непониманию, чем природные способности студентов, на что порой сетуют педагоги классической традиции. Б. А. Успенский по этому поводу отмечает, что язык «некоторым образом организует самое информацию, обусловливая отбор значимых фактов и установление той или иной связи между ними: то, что не описывается на этом «языке», как бы вообще не воспринимается общественным адресатом, выпадает из его поля зрения» [5, с. 10].
Здесь же необходимо обратиться к сложностям понимания субъект-объектных отношений процесса обучения, затрудняющим коммуникацию преподавателя со студентом: лексическая многозначность; эмоциональноассоциативная контекстуальная смысловая зависимость слова; разница в восприятии одного и того же языка, на котором говорят преподаватель и студент. Это обусловлено особым языком общения как между разными поколениями (в вузовской практике межпоколенный разрыв налицо), так и между разными социальными группами внутри одного поколения.
Кроме того, подчеркнем, что язык может не только адекватно отражать мысль человека, но и скрывать, «ретушировать» мысль, подобно одежде, скрывающей форму тела. Особого внимания заслуживают языковые уловки, «капканы» языка, при которых реальные конкретные рассуждения подменяются различного рода речевыми схемами: псев-дофилософскими, демагогическими, уводящими в призрачные языковые дали. Однако это предмет отдельного разговора.
-
1. Постмодернизм. Энциклопедия. Минск, 2001.
-
2. Хейзинга, Й. Homo ludens. Статьи по истории культуры / Й. Хейзинга. М., 1997.
-
3. Кравченко, С. А. Играизация российского общества (К обоснованию новой социологической парадигмы) / С. А. Кравченко // Общественные науки и современность. 2002. № 6.
-
4. Витгенштейн, Л. Философские исследования / Л. Витгенштейн // Философские работы. М., 1994. Ч. 1.
-
5. Успенский, Б. А. История и семиотика / Б. А. Успенский // Избр. тр. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М. : Гнозис, 1994.
Список литературы Языковая игра в контексте современного гуманитарного образования
- Постмодернизм. Энциклопедия. Минск, 2001.
- Хейзинга, Й. Homo ludens. Статьи по истории культуры/Й. Хейзинга. М., 1997.
- Кравченко, С. А. Играизация российского общества (К обоснованию новой социологической парадигмы)/С. А. Кравченко//Общественные науки и современность. 2002. № 6.
- Витгенштейн, Л Философские исследования/Л. Витгенштейн//Философские работы. М., 1994. Ч. 1.
- Успенский, Б. А. История и семиотика/Б. А. Успенский//Избр. тр. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Гнозис, 1994.