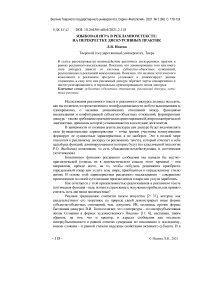Языковая игра в рекламном тексте: на перекрестке дискурсивных практик
Автор: Исаева Людмила Вадимовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается взаимодействие различных дискурсивных практик в рамках рекламного высказывания. Показано, что доминирование того или иного типа дискурса зависит от системы субъектно-объектных отношений, реализованных в рекламной коммуникации. Показано, что наличие эстетического компонента в рекламном продукте усложняет и динамизирует данные отношения, в силу чего сам рекламный дискурс обретает черты одновременно и институализированного, и персонально-ориентированного типов дискурса.
Субъектно-объектные отношения, рекламный дискурс, эстетика рекламы
Короткий адрес: https://sciup.org/146282282
IDR: 146282282 | УДК: 81’42 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.2.118
Текст научной статьи Языковая игра в рекламном тексте: на перекрестке дискурсивных практик
Исследования рекламного текста и рекламного дискурса должны исходить, как мы полагаем, из представления о полифукциональности любого высказывания и, одновременно, о наличии динамических отношений между функциями высказывания и конфигурацией субъектно-объектных отношений, формирующих дискурс – таково требование прагматически ориентированной, антропоцентрической лингвистики, принципы которой устанавливаются в последние десятилетия.
В зависимости от позиции агента дискурса сам дискурс будет видоизменять свои функциональные характеристики – точка зрения участника коммуникации формирует ее сущностные характеристики, а не наоборот. Это в полной мере относится к рекламному дискурсу (и рекламному тексту), который сочетает в себе целый ряд функций, доминирующими из которых будут (по классической типологии Р.О. Якобсона) конативная, то есть убеждающе-воздействующая, и поэтическая (эстетическая).
Конативную функцию рекламного сообщения мы назвали бы жесткопрагматической (отнюдь не в лингвистическом смысле этого термина) – она направлена, прежде всего, на то, чтобы побудить реципиента приобрести определенный товар или услугу или, шире, приобщиться к определенному стилю жизни. В основе этой характеристики рекламного высказывания – совершенно приземленное по своей сути желание производителя товара или услуги заработать.
Как сочетается с этой приземленностью реализованная в рекламном тексте поэтическая функция – ведь поэзия и стремление к получению прибыли, как принято считать, есть две вещи несовместные?
Реклама традиционно считается видом искусства [2: 31], которое, как свидетельствуют его теоретики, по природе своей демонстрирует иные формы субъектно-объектных отношений, чем, допустим, PR, политика, прочие формы бытования дискурса. В.И. Тюпа полагает, что «литература – это интерсубъективная жизнь Сознания в формах художественного Письма» [11: 6], настаивая, таким образом, на том, что и креатор, и адресат сообщения как носители интерсубъективности в равной степени суверенны по отношению к последнему, иными словами – в равной степени наделены свойствами активного субъекта. И в теоретических работах, посвященных литературно-художественному дискурсу, это положение относится к разряду общепринятых - именно об активной роли субъекта рецепции говорил Ц. Тодоров, когда утверждал, что эстетическое своеобразие произведения открывается «в тот момент, когда произведение вступает в контакт с читателем» [9: 107].
На чем основана онтологическая близость рекламного и художественного высказывания? Во-многом, на том, что и в искусстве, и в рекламе субъект творчества, реализуя поэтическую функцию языка в ее обращенности на самое себя демонстрирует свою власть над стихией материала (языкового, пластического, музыкального и т.д.), распоряжаясь им таким образом, чтобы, если следовать теоретикам, занимавшимся этими проблемами, вызвать эффект остранения, заставить потребителя обезличенный многократными случаями употребления материал (слово, краска, звук и т.д.), пережить «как видение, а не как узнавание» [12: 13]. И писатель, и рекламист - в лучших своих произведениях - столь мастерски распоряжаются данным им материалом, что легкость, с которой они это делают, создает ощущение игры.
Именно игровое начало в рекламном тексте более всего сближает рекламу и искусство. Об эстетическом потенциале языковой игры в рекламе написано много. С самого начала процесса системного изучения феномена языковой игры в отечественной лингвистике специалисты подчеркивают ее позитивносозидательный, творческий потенциал. Языковая игра - это «...игра с формой речи, когда свободное отношение к форме речи получает эстетическое задание, пусть даже самое скромное...» [7: 172].
Акцентирует эстетически-творческий, созидательный потенциал языковой игры и Б.Ю. Норман: «...ЯИ в самом широком смысле слова - это использование языка для достижения надъязыкового, эстетического, художественного эффекта...» [5: 79]. Поскольку рекламный текст есть форма искусства, мы вправе предполагать, что отношения в рамках рекламного дискурса не ограничиваются отношениями монологическими, а адресат, будучи объектом воздействия со стороны рекламиста, реализует и качества субъекта. Правда, субъективность его - особого свойства.
Говоря о нюансах взаимодействия рекламы и искусства, исследователи справедливо полагают, что оценить их можно, прежде всего, в рамках прагматического подхода. «Очевидно, - пишет современный исследователь маркетинговых стратегий, - при всех возможных точках соприкосновения у художественного творения, в отличие от маркетингового, есть следующие признаки: художественное произведение самодостаточно, маркетинговое подчинено прагматической цели; художественное произведение уникально, и, следовательно, вечно, а жизненный цикл маркетингового произведения зависит от тиражирования» [2: 31].
Если конкретизировать это наблюдение применительно к феномену языковой игры, то дифференциация искусства и рекламы будет более сложной и тонкой. В искусстве игра есть эстетическая деятельность, форма реализации творческих способностей художника, которая по определению «незаинтересованна», о чем в Новое время пишут и говорят со времен И. Канта. Так, великий немецкий философ особо подчеркивал в «Критике способности суждения»: «Красота — это форма целесообразности предмета, поскольку она воспринимается в нем без представления о цели» [3: 240]. «Играя», художник не заботится о собственной выгоде (выгоде в том смысле, в каком о ней говорят люди бизнеса). Его «выгода» – в успешной реализации своих творчески-познавательных способностей, в ощущении всевластия над стихией языка (и иных материалов, в которых работает мастер – звука, красочного пятна или линии, мрамора и т.д.). Если это всевластие и приносит материальные блага, то – не в первую очередь.
В рекламной же деятельности языковая игра есть способ реализации маркетинговых стратегий, целью которых является, в конечном итоге, также получение максимальной прибыли, но – физической, а не «метафизической». Что остается потребителю рекламы? Выгода «метафизическая» – удовольствие от самого рекламного текста! Кстати, выгода немалая, особенно – если текст хорошего качества.
Но для рекламиста хорошее качество рекламного текста, способного в силу этого доставлять эстетическое удовольствие – его вторичное качество, подчиненное главной задаче. Иерархию этих задач, в частности, определяет Г.В. Пономарева, которая одной из первых заговорила о персуазивности (доминировании именно конативной функции, по Р.О. Якобсону) как важнейшем качестве рекламного текста и, соответственно, дискурса. С точки зрения исследовательницы, за рекламным слоганом как речевым макроактом персуазивности закреплена «…персуазивная иллокутивная сила побуждения реципиента к совершению / отказу от совершения определенного посткоммуникативного действия в интересах адресанта» [6: 9]. Исследователь также говорит и о манипулятивной функции рекламы, суть которой составляет намеренное «…манипулирование сознанием адресата в процессе персуазивной коммуникации» [там же.].
Одновременно, перечисляя стратегии, на основе которых формируется рекламный персуазив, Г.В.Пономарева, указывает на следующие:
-
- стратегия создания положительного имиджа рекламируемого продукта;
-
- стратегия привлечения внимания к рекламируемому продукту;
-
- стратегия поддержки интеракции;
-
- стратегия вуалирования персуазивного намерения [там же.].
Мы предполагаем, что последняя из стратегий, а именно «стратегия вуалирования персуазивного намерения» и реализуется в рекламном сообщении с помощью внедрения в него элементов эстетической игры.
Но если рекламист, действительно, «вуалирует» свое персуазивное намерение, используя игровые, эстетически насыщенные формы сообщения в качестве камуфляжа, скрывающего его истинное намерение, то двойная экспозиция его интенции (реальная интенция, связанная с базовой прагматикой рекламного дискурса, с одной стороны, и интенция камуфлирования, с другой) предполагает и, одновременно, усложнение структуры адресата рекламного сообщения. С одной стороны, он будет объектом реализации маркетинговых стратегий, от которого требуются соответствующие действия – покупка (услуги, товара, «стиля жизни» и т.д.). С другой стороны, он становится субъектом эстетической деятельности – как полноправный участник диалога креатора и реципиента, диалога, в рамках которого реализуется интерсубъектная специфика художественного дискурса, диалогичного по своей природе, если следовать тому пониманию искусства, которое сложилось после трудов М.М. Бахтина.
Объяснить парадокс сосуществования разных видов дискурсивных практик в рамках рекламного сообщения помогает и типология различных форм дискурса, разработанная В.И. Карасиком [4]. С точки зрения данной типологии рекламный дискурс – дискурс институциональный, с ясно очерченной структурой отношений «агент-клиент». В рамках данной институциональной формы дискурса адресат, действительно, является объектом персуазивных стратегий, направленных на него субъектом дискурса (по поводу некоего референта).
Художественный же дискурс – по В.И. Карасику – принадлежит к формам персонально-ориентированного бытийного дискурса. Не вникая в суть тех стратегий, в рамках которых осуществляется реализация бытийно-ориентированного потенциала художественного дискурса, ограничимся формальным его описанием: креатор и рецептор здесь в равной степени наделены функцией суверенного по отношению к сообщению субъекта. Поэтому можно предположить: рекламный дискурс, будучи по определению институциональным, включает в себя – как органическую составляющую – элементы персонально ориентированного дискурса. При этом эти две базовые форманты рекламного дискурса по-разному ориентированы, у них разные, противоположным образом направленные, но пересекающиеся, векторы. Для клиента рекламного дискурса актуальным, прежде всего, является его персоналистский формат, и только при успешной реализации последнего реципиент рекламного сообщения может стать клиентом институционального формата рекламного дискурса. С другой стороны, рекламист, чтобы успешно реализовать интенции, лежащие в основе институциональной компоненты рекламного дискурса, обязан задействовать ресурсы, характерные для инструментария персоналистски ориентированного типа дискурса.
Динамика и типология соотношения в рамках рекламного дискурса двух данных форматов может быть проиллюстрирована огромным количеством рекламных продуктов, которые могут быть шкалированы в соответствии с доминированием той или иной составляющей, актуальной для субъекта и адресата рекламной деятельности. Например, в часто ныне демонстрируемом телевизионном рекламном ролике романтическая новелла об интимных (гипотетически, реализованных лишь в воображении участников истории, ставшей основой ролика) отношениях как произведение киноискусства вполне самодостаточна и, фактически, автономна по отношению к рекламируемому продукту – кофе «Carte Noire» [13], «пробуждающему желание». Если предположить, что столь же эффективно, как кофе, «желание» способны пробудить чипсы «Pringles» или ростбиф от «Мираторг», то в эстетической компоненте рекламного сообщения ничего не изменится. И, напротив, минимизированный эстетически компонент рекламы квартир от, допустим, Тверского домостроительного комбината переводит сообщение исключительно в регистр институционального дискурса – с указанием официальных реквизитов, телефонов и прочих данных агента рекламной деятельности [14]. Располагающиеся в крайних точках данной шкалы рекламные продукты демонстрируют доминирование либо объективного, либо субъективного начала в позиции адресата, в то время как между данными точками находится все множество рекламных текстов – с разной логикой и мерой присутствия субъективного и объективного начал в данной позиции.
Таким образом, рекламный дискурс основан на гораздо более сложной конфигурации субъектно-объектных отношений, часть из которых скрыта, «завуалирована» от наблюдения реципиента. Как субъект эстетической коммуникации, получая удовольствие от художественных эффектов рекламного текста, он становится объектом манипулятивного в своей основе дискурса, где коммерчески ориентированная интенция субъекта маркетологического воздействия видит в нем не субъекта, а объект реализации персуазивных тактик, которые будут тем эффективнее, чем в большей степени завуалированными будут реальные интенции маркетолога.
При этом рекламный дискурс формирует двойную структуру – в зависимости от позиции его субъекта (рекламиста или адресата) маркетологический или эстетический форманты дискурса обретают статус мета-компонента, формирующего и форматирующего второй из означенных компонентов – эстетический или маркетологический (не исключено, что эта дву-составность или даже поли-составность может быть прослежена и в иных типах дискурса, описанных В.И. Карасиком). Мера же и гармония соотношения этих двух составляющих зависит от уровня креативной компетенции рекламиста и рецептивной компетенции адресата рекламного дискурса.
Говоря о том, что «дискурс – это речь, погруженная в жизнь» [1: 136], Н.Д. Арутюнова задает общий вектор дискурсологических исследований, который может разделяться на анализ первой составляющей – речи, и анализ составляющей второй – жизни. Конечно, обособить эти два компонента дискурса можно лишь в операционных целях – в реальном речепроизводстве они слиты воедино, но такое – операционное – разделение представляется продуктивным, поскольку, если перефразировать классика, не решив частные вопросы, в решении вопросов общих мы всегда будем натыкаться на острые углы.
В анализе рекламного дискурса, как показывает огромное количество работ, посвященных этому виду речепроизводства, акцент делается, прежде всего, на реализацию речевых практик. Если речь идет о жизни, то, как правило, анализу подвергаются такие стороны «жизни», как экономический субстрат рекламной деятельности, маркетинг, поведение потребителя в отношении тех или иных продуктов рекламы и продуктов рекламируемых.
Но у «жизни», в которую погружена речь, есть и еще одна важная составляющая, по отношению к которой перечисленные аспекты будут «наполняющим материалом» и о которой мы пишем в данной статье – сама структура отношений агентов рекламной деятельности, тех, кто производит рекламный продукт, и тех, кто его потребляет. В конечном итоге, «жизнь» – это жизнь людей и институтов, сформированных людьми, а также те отношения, которые возникают между людьми и институтами в процессе порождения и потребления дискурса. То есть, отношения субъектно-объектные.
В одной из недавно опубликованных монографий, посвященных близкой лингворекламоведению проблематике, проблематике PR [8] автор подробно анализирует субъектно-объектные отношения в рамках изучаемой сферы. Одним из частных проявлений PR, по справедливому наблюдению автора монографии, является реклама. Так, если рассматривать рекламную деятельность в данном аспекте, то она относится к такому виду реализации субъектно-объектных отношений, который в пиарологии именуется press agentry (publicity) – монологическая в своей основе форма коммуникации, «в которой при создании текста учитываются только интенции креатора, при этом реципиент воспринимается как объект информации и коммуникация представляет собой субъектно-объектную коммуникацию» [8: 67] (курсив наш – Л.И.). При этом, продолжает исследователь,
«…объектами дискурсивной формации PR становится только та предметная действительность, которая положительно характеризует организацию, соответственно высказывания содержат только положительную информацию об организации, товаре, услугах». Говоря о данной форме коммуникации как об односторонней, автор полагает, что она «…исключает обратную связь, что способствует формированию такой архитектоники PR-дискурса, в которой при создании текста учитываются только интенции креатора, при этом реципиент воспринимается как объект информации и данная коммуникация представляет собой субъектно-объектную коммуникацию» [там же].
Иные формы PR-коммуникации демонстрируют, по мнению автора, иные формы отношений – двусторонне-симметричные и двусторонне-асимметричные [8: 68], где потребитель PR продукта уже не является исключительно объектом манипуляции, но и сам становится (в разной степени, в зависимости от качества симметрии) субъектом диалогических отношений, наделенным той или иной степенью самости, более или менее реализованной субъектностью.
При всей основательности изложенной концепции представляется разумным скорректировать ее и указать на более сложную, чем в представленной концепции, конфигурацию субъектно-объектных отношения в рекламе как аспекте PR, чтобы прояснить реальную конфигурацию той «жизни», в которую погружена «речь» в рамках рекламного дискурса.
Одним из оснований модели дискурса в цитируемой монографии является «металингвистическая» в своей основе модель дискурсивных компетенций, принадлежащая одному из ведущих отечественных дискурсологов В.И. Тюпе. Креативная компетенция дискурса, по В.И. Тюпе, относится к креатору сообщения (субъекту), референтная компетенция – к объекту, являющемуся объектом дискурса, рецептивная – к его адресату [10: 170-182]. При этом адресат дискурса демонстрирует – в зависимости от его типа – сложную диалектику сочетания черт и субъекта, и объекта дискурса. В рамках PR-дискурса, в его основных, классических жанрах, таких, как бэкграундер, пресс-релиз, биография, байлайлнер и тд., [8: 52], где активное отношение адресата к сообщению не предполагается монологическим характером последнего, адресат становится объектом воздействия. Но в том, что касается рекламы, здесь позиция адресата принципиально изменяется, и он – в силу характера рекламного текста – обретает черты субъекта, как мы попытались показать выше.
Таким образом, субъектно-объектная структура рекламного дискурса выстраивается в гораздо более сложной конфигурации, чем предполагает традиция изучения рекламной деятельности. Субъект-1 рекламного дискурса (рекламист), реализуя свою креативную компетенцию по поводу Объекта-1 (рекламируемый продукт) в рамках референтной компетенции дискурса, оказывает определенное воздействие на адресата, структура которого представляет собой динамическую конфигурацию субъектно-объектных характеристик: адресат становится объектом воздействия со стороны объекта рекламной деятельности и, одновременно, субъектом эстетической деятельности, спровоцированной художественной составляющей рекламного текста.
Список литературы Языковая игра в рекламном тексте: на перекрестке дискурсивных практик
- Арутюнова Н.Д. Дискурс // ЛЭС. М.: Советская энциклопедия, 1990. C. 136–137.
- Должикова С.Н. Организация информации в предметной области «Маркетинг»: интерпретационный и системообразующий аспекты. : Автореф. дис. … доктора филол. наук. 10.02.19. – Краснодар: Кубан. гос. ун-т. 2009. 51 с.
- Кант Иммануил. Сочинения: В 6 томах. М.: «Мысль», 1966. – Т. 5. 564 с. 4. Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: Сб. науч. тр., Волгоград, 2000. С. 5–20.
- Норман Б.Ю. Грамматика говорящего. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. yн-та, 1994. 228 с.
- Пономарева Г.В. Каламбур как форма реализации языковой игры в англоязычной персуазивной коммуникации в аспекте перевода. Автореф. дисс… канд. филол. наук. 10.02.19. Краснодар, Кубан. гос. ун-т. 2009. 23 с.
- Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис: Колл. Монография / Отв. ред. Е.А. Земская. М.: Русский язык, 1981. 224 с.
- Селезнева Л.В. Параметрическая модель дискурса. Прагматика. Семантика. Ак-сиология. М.: Флинта, 2019. 308 с.
- Тодоров Ц. Поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.: Издательство «Про-гресс», 1975. С. 37–113.
- Тюпа В.И. Дискурсные формации: очерки по компаративной риторике. М.: Языки славянской культуры, 2010. 320 с.
- Тюпа В.И. Постсимволизм: Теоретические очерки русской поэзии ХХ века. Са-мара, 1998. 156 c.
- Шкловский В. Искусство как прием // Шкловский В. О теории прозы. М.: Совет-ский писатель, 1983. С. 9–23.
- URL: https://www.youtube.com/watch?v=o4ssWFqxWGw (дата обращения: 29.02.2020).
- URL: https://www.youtube.com/watch?v=Lst_fwczkxY (дата обращения: 29.02.2020).