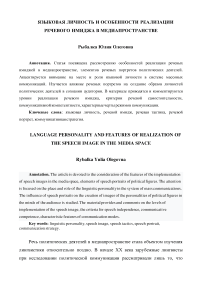Языковая личность и особенности реализации речевого имиджа в медиапространстве
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению особенностей реализации речевых имиджей в медиапространстве, элементов речевых портретов политических деятелей. Акцентируется внимание на месте и роли языковой личности в системе массовых коммуникаций. Изучается влияние речевых портретов на создание образов личностей политических деятелей в сознании аудитории. В материале приводятся и комментируются уровни реализации речевого имиджа, критерии речевой самостоятельности, коммуникативной компетентности, характерные черты режимов коммуникации.
Языковая личность, речевой имидж, речевая тактика, речевой портрет, коммуникативная стратегия
Короткий адрес: https://sciup.org/149139523
IDR: 149139523 | УДК: 070:81’27
Текст научной статьи Языковая личность и особенности реализации речевого имиджа в медиапространстве
Речь политических деятелей в медиапространстве стала объектом изучения лингвистики относительно поздно. В начале ХХ века зарубежные лингвисты при исследовании политической коммуникации рассматривали лишь то, что входило в рамки понятий «традиционной риторики и стилистики». Современным этапом развития политической лингвистики» назван рубеж ХХ– XXI веков [4, с. 22-31].
Политическая коммуникация в медиапространстве как предмет исследования политической лингвистики располагает рядом дифференцирующих черт: это речевая деятельность, пропагандирующая идеи, эмоционально воздействующая на реципиентов – граждан страны, побуждающая их к совершению определенных политических действий. Целью подобного влияния должна стать общественная консолидация, обоснованное принятие социально-политических решений в условиях традиционного плюрализма среди целевой аудитории политика. Как утверждает Ю.Н. Караулов, языковая личность – это личность, выраженная в языке (текстах) и реконструированная в основных своих чертах на базе языковых средств [ 14, с. 33-41]. Исходя из этого, делаем вывод о том, что языковая личность в системе массовых коммуникаций – есть объемная содержательная структура, неразрывная с сущностью говорящего. Проблема конструирования её адекватной модели вызвана многообразием языкового потенциала: речевые взаимосвязи различных уровней сложны в обнаружении. Речевой имидж как языковое явление является более поверхностной реалией.
Уровни реализации речевого имиджа в медиапространстве представлены в виде трехчастной структуры, включающей языковой, речевой (коммуникативный) и текстовый аспекты [20, с. 88-93].
Языковой уровень сводится языковой культуре человека. Традиционное для языкознания определение языковой культуры подразумевает рассмотрение, анализ и оценку используемых для формирования публичного образа языковых средств всех уровней: от фонетического к грамматическому при непосредственном взаимодействии с лексическим.
Условие использования исключительно форм литературного языка и аспектов кодифицированной нормы не является строго обязательным для исполнения: преследуя определенную ситуативную цель (адаптация в социальной группе), субъект может овладеть элементами, не входящими в страт литературного языка - профессиональный жаргон, диалектные формы, просторечное употребление. Отсюда закономерен вывод: богатство запаса разнородных вербальных средств, которыми располагает индивид, прямо пропорционально степени ощущаемой им свободы в жизненных обстоятельствах.
Основные параметры, инкорпорированные в понятие речевой составляющей имиджа, представлены речевой самостоятельностью и коммуникативной компетентностью. Речевая культура здесь синонимична поведенческой культуре. Считаем уместным отметить понимание общих правил, норм и принципов общения, владение речевыми жанрами, распознавание ролей и статусов говорящих, осознание применения тех или иных речевых тактик и стратегий, традиционно используемых в м едиапр о стр анств е.
Ключевым признаком и высшим проявлением речевой самостоятельности следует считать речевое творчество, демонстрируемое посредством применения навыков спонтанного общения. Определение «степени самостоятельности» индивида как речевого субъекта невозможно без обращения, прежде всего, к способности донести интенции до слушателя. Немаловажным является и умение максимально отойти от речевых штампов и клише, уместно включать в свою речь различные изобразительно-выразительные и риторические средства.
Рассматривать понятие коммуникативной компетентности представляется возможным исключительно в отношении субъектов, оперативно ориентирующихся в быстро меняющихся обстоятельствах коммуникативного акта, даже в условиях совершенно новой, неизвестной ранее ситуации общения, и успешно конструирующих стратегическую и тактическую линии поведения.
Когда говорящему важен речевой имидж, он помнит о ряде влияющих факторов и действует сообразно с ними. К числу этих критериев относят:
-
• время и место общения;
-
• социально-коммуникативные роли и статусы собеседников;
-
• цели коммуникации;
-
• психоэмоциональное состояние собеседников, особенности их мировоззрения и мировосприятия.
Значимым также представляется принятие во внимание режимов коммуникации и экстралингвистических особенностей взаимодействия, что (в терминологии [19, с. 76-86]) очень близко к реципиент-дизайну. Коммуникативные неудачи, ошибки, недочёты, провалы неизбежны, если какой -либо из параметров речевого акта оценен неверно (либо не учтена их совокупность).
Анализ текстового (содержательного) элемента имиджа, создаваемого в медиапространстве, фактически представлен ответом на вопрос о том, что именно стремится донести своей публике говорящий. В конце ХХ в. Т. В. Шмелева (при определении структуры текстовой составляющей) предложила анализировать политический дискурс по следующим направлениям:
-
• ключевые слова - имеют высокую частотность в сфере употребления, обладают развитой синтагматикой, значительной степенью внутритекстовых связей, воспринимаются общественным сознанием в качестве значимой характеристики имиджа;
-
• лозунги - форма самопрезентации и, в то же время, являются инструментами влияния публичного деятеля на аудиторию;
-
• модель настоящего отличается ярко выраженной оценочностью, так как транслирует субъективное видение существующего положения дел;
-
• модель будущего занимает особое место при обстоятельствах, когда взгляд политической персоны ориентирован на перспективу: улучшение условий жизни, реализацию масштабных проектов;
-
• модель прошлого является одним из основополагающих параметров самоидентификации личности говорящего [19, с. 60].
Продемонстрированные выше содержательные составляющие характеризуют и маркируют имидж любого объекта общественного внимания (в том числе политического деятеля) в системе массовых коммуникаций [20, с. 88-
Вербально-речевое поведение говорящего включает совокупность элементов:
-
• часто исполняемые речевые роли;
-
• привычные речевые правила;
-
• предпочтительные целевые установки;
-
• регулярно применяемые тактики и стратегии коммуникативного поведения;
-
• индивидуальные особенности употребления слов и выражений.
Колоссальной значимостью при этом обладает заведомая невозможность избавления от этих составляющих. Считаем важным здесь процитировать показательное высказывание отечественного политтехнолога О. Матвейчева, формирующего стратегию выборной кампании в зависимости от языковых и речевых особенностей кандидата: «Есть кандидаты, которых категорически нельзя показывать на телевидении, а есть те, кому, например, не стоит обращаться напрямую к публике» [17, с. 18]. Одну из главных ролей при создании имиджа играют речевое поведение и языковые привычки, имеющих если не превалирующее, то явно не «эпизодическое» значение в конструировании положительного или отрицательного образа.
Возвращаясь к вопросу о специфике воздействия на адресата, отметим, что адресант политической коммуникации обладает отличительным свойством: аудитория взаимодействует не с истинной личностью выступающего и его характеристиками, а только с его имиджем. Обращения политика к единомышленникам редко происходят в форме личных контактов: «Определяющим для него становится общение опосредованное. А это означает не только то, что взаимодействие происходит с помощью различных СМИ, но и то, что между ними появляется такой промежуточный элемент, как имидж лидера… Этот конструкт формируется в результате коммуникации между политиком и аудиторией. При такой ситуации отступают на второй план традиционные проблемы психологии лидерства: какие черты личности и характера необходимы лидеру («теория черт»), какой тип личности требуется в той или иной специфической ситуации (ситуационная теория лидерства)» [1, с. 130].
Формирование соответствующей установки является задачей политической речи. Л. Войтасик определяет установку как устойчивую организацию знаний, чувств и мотивов, вызывающую соответствующее отношение человека к идейным, политическим и общественным явлениям окружающей его действительности, сформированную вследствие воздействия пропаганды, воспитания и опыта. Как отмечает автор, установки представляют собой универсальное «поведение, по отношению к окружающей человека действительности, в которой может существовать множество предметов и явлений, имеющих для человека особое значение. Предметом установок может быть все, что имеет или имело (в историческом смысле) какое-либо значение для удовлетворения человеческих потребностей» [5, с. 223-224].
Говоря о сверхзадаче, О. Иссерс утверждает, что политические интересы требуют, в первую очередь, положительной самопрезентации партии, общественно-политического течения или конкретного лидера. Ещё одни значимый критерий – побуждение общественных групп к каким-либо действиям, третий – разделение на условных «своих» и «чужих» [11, с. 173201].
Основная сверхзадача политического деятеля всегда заключается в улучшении собственного имиджа и/или имиджа своей организации и партии в медиапространстве. Главным элементом такого имиджа должно быть формирование представления о политике (или его партии) как активно отстаивающим интересы граждан, стремящимся устранить существующие недочёты при осуществлении политических стратегий. Эта черта – деятельность – указывается в качестве важнейшей характеристики политических выступлений в работах зарубежных и отечественных ученых. Дж. Галлап, проводя анализ аспектов политической популярности, писал: «Я сказал бы, что любое резкое падение в популярности, вероятно, исходит от президентского бездействия перед лицом важных событий. Бездействие вредит президенту более, чем что-либо еще» [1, с. 143].
Политическая жизнь нашего общества также располагает рядом ярких примеров того, как нерешительность становится фатальной для политических лидеров. Так, непопулярность Моссовета в годы перестройки была связана главным образом с тем, что он не завершил ни одного важного дела, не довел до закономерного итога ни одно решение.
Специфические отличия аргументации в границах политической коммуникации заключаются в том, что она далека от привычного, логичного, понимания конечной цели воздействия: здесь не ставится задача обнаружения истины. «По мнению известного американского политолога М. Эдельмана, вся политическая жизнь есть творимая с помощью языка конструкция. В ней не существует единственной «настоящей» истины. Каждый значимый политический факт, описание каждого события или отношение к политической фигуре неизбежно содержат в себе интерпретации участников и наблюдателей политического спектакля, зависящие от их идеологических и психологических способностей. Один и тот же политический факт может пониматься совершенно по-разному различными людьми, и это совсем не означает, что один из них видит истину, а другой заблуждается: обе точки зрения одинаково имеют право на существование» [1, с. 136]. Считаем необходимым отметить, что М. Эдельман убеждён, что вся рациональная основа аргументации в политической среде иллюзорна, так как выводы и решения продиктованы интересами и ожиданиями групп и/или идеологическими предпочтениями и ориентирами, но не стремлением к поиску истины.
Такая особенность политической аргументации в системе массовых коммуникаций усиливает интерес к исследованию проблем перлокуции на сознание и поведение человека. Определенный научный интерес представляет отслеживание наиболее частотных речевых перспектив в предвыборных публичных выступлениях. Чтобы сформировать иллюзорное представление о приоритетах и стремлениях политического деятеля, необходимо обозначить близкие аудитории концепты и включить их элементы в речь. Для достижения этой цели следует определить вектор речевого поведения, обратиться к стереотипам сознания и политического мышления, попытаться смоделировать образ адресанта [10, с. 22-47].
Согласно определению Т. Е. Янко, коммуникативные стратегии – это:
-
• выбор речевого намерения и семантических компонентов;
-
• определение объёма сведений;
-
• соотнесение информации с особенностями восприятия публики;
-
• определение последовательности применения коммуникативных составляющих;
-
• выбор конкретного коммуникативного режима, стиля и жанра [24, с. 119].
В связи с перечисленным особый интерес представляет стратегия позитивного представления личности, ориентированная на такое речевое воздействие на аудиторию, когда негативные выводы о говорящем сделать невозможно.
Здесь считаем необходимым обратить внимание на понятие речевого портрета, которое занимает значимое место в пространстве нескольких научных традиций [16, с. 510–525]. В настоящее время языковой портрет становится одним из основных средств формирования любого желаемого образа в медиапространстве. Более того, актуальным вопросом современной социолингвистики, являющимся обособленным направлением исследований языковой личности [12, с. 119-135], обозначается проблема конструирования качественного, эффективного речевого портрета. Это один из параметров изучения дискурса [21, с. 33-45], находящийся в эквиполентном ряду понятий «человек говорящий» – «языковая личность» – «речевая личность» – «коммуникативная личность» – «речевой имидж» [20, с. 88-93].
Основной целью конструирования и поддержания образа политика в системе массовых коммуникаций при помощи постоянного расширения, дополнения и модификации речевого портрета становится формирование у адресата идеи определенного ценностного отношения к политической персоне.
Сама же рецепция и оценка речевого портрета политического деятеля напрямую зависит от выбора речевых средств и способов их комбинации.
В скором времени идея была доработана рядом исследователей. В качестве основной задачи обозначалось составление таких речевых портретов, которые транслировали бы возможность подбора модели речевого поведения, применимой при каждых отдельных речевых обстоятельствах.
Изучение проблемы репрезентации всех уровней системы языка при применении социолингвистического портрета как инструмента фиксации и описания речевых особенностей сопряжено с некоторыми трудностями. Здесь необходимо отметить, что «многие языковые парадигмы, начиная от фонетической и кончая словообразовательной, оказываются вполне соответствующими общенормативным параметрам и поэтому интереса не представляют. Напротив, важно фиксировать яркие диагностирующие пятна» [6, с. 7–8].
В связи с процитированным закономерно предположить, что изучение речевого портрета – это характеристика разных уровней проявления языковой личности. В числе ключевых параметров назовём фонетические особенности, в частности просодические критерии речи индивида:
-
• темп;
-
• мелодику;
-
• модель применения пауз;
-
• логическое и интонационное выделения слов, содержащих смысловую и экспрессивную нагрузки [2, с. 4-9].
При проведении подобного исследования необходимо осознавать, что оценивание речевого портрета личности другими всегда сопряжено с определенной долей субъективности, что связано со стереотипным восприятием речевого общения.
М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой в ходе исследования русского речевого портрета с опорой на выбор орфоэпического варианта и использования приемов акцентного выделения были описаны речевые пристрастия нескольких отдельно взятых личностей [15, с. 57-66].
Еще одним вариантом демонстрации индивидуальных предпочтений человека является манера изменения тона в рамках отдельно рассмотренной интонационной конструкции. Индивидуальные особенности и общепринятые образцы построения интонаций в различных ситуациях взаимосвязаны как индивидуальный выбор и общий набор инструментов, составляющих интонационную систему языка. Здесь важно отметить, что «…впечатление оригинальности в интонации создается за счет особенностей отбора, употребления и сочетания общих для всех средств» [22, с. 197].
Характеристики речи личности, как утверждает В. И. Карасик [12, с. 119135] – это отражение личностных качеств человека, собранных в речевом портрете.
Среди социолингвистов нередко высказывается мнение о том, объём информации, раскрывающий личность говорящего, зависит от нюансов восприятия его акцента публикой. Ключевыми здесь являются сведения географического характера, в частности места рождения и постоянного проживания. Максимально ярко социальные особенности речи проявляются на фоне региональных черт, что напрямую свидетельствует об их вторичности по сравнению с региональными, при этом очевиден тесный характер связь между этими параметрами. Несмотря на то, что диалектные особенности произношения типичны для подавляющего большинства носителей языка, количество региональных черт обратно пропорционально социальному статусу говорящего [7, с. 41–45].
Отношение к конкретному социальному классу (в данном случае имеется в виду отдельная группа людей) и принадлежность к определенной социальной сети с присущей ей иерархией связей оказывает прямое воздействие на формирование модели речевого поведения и на становление типа произношения. Более того, часто тип произношения выступает своеобразным маркером образа жизни его носителя, представляя собой ценность в качестве символа класса.
Все акты коммуникации, отраженные в речевых портретах, одновременно обусловлены и смысловыми категориями, и ситуативностью. Если в качестве инструмента высказывания используется родной язык, то передача и восприятие сведений осуществляется посредством общего, единого лингвистического кода в пределах языковой системы [8, с. 21]. Носитель языка довольно быстро понимает специфику поступающей информации, оперативно распознавая вариативность лексических единиц.
Формирование собственного имиджа как части образа и речевого портрета сопряжено с выбором таких речевых единиц, которые соответствуют современным нормам русского языка и отвечают коммуникативной ситуации [9, с. 25-32].
По мнению ученых, речевой потрет отдельно рассматриваемой личности, имеющей представление о языковой семантике, системе ее концептов и законах речевого поведения, индивидуален и уникален [3, с. 51-58].
В свою очередь Ю. Н. Караулов убеждён, что языковая личность - есть «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются:
-
а) степенью структурно-языковой сложности;
-
б) глубиной и точностью отражения действительности;
-
в) определенной целевой направленностью»
Такое рассмотрение объединяет способности носителя языка и особенности порождаемых им текстов [13, с. 64-73].
Исследователями отмечается перспективность создания коллективного речевого портрета, который даёт возможность не только проанализировать и сформировать речевую характеристику сегмента социума, к которому относится индивидуум, но и обобщить типичные коммуникативные свойства этой части общества.
Формирование речевых портретов остается актуальным предметом филологических и журналистских исследований на протяжении нескольких десятков лет. Доминирование антропоцентрического подхода в рассмотрении, изучении и трактовке языковой личности позволило не только наделить исследования междисциплинарным характером (использовать достижения социолингвистики, психолингвистики, прагмалингвистики, этнолингвистики), но и определить в качестве ключевого человеческий фактор.
Подведем итог: речевой портрет в медиапространстве - это воплощение в речи языковой личности, объединенной с другими личностями в единую социальную общность (национальную, демографическую, профессиональную и т.п.).
Список литературы Языковая личность и особенности реализации речевого имиджа в медиапространстве
- Абашкина, Е. Политиками не рождаются: как стать и остаться эффективным политическим лидером (психологическое пособие для политиков) / Е. Абашкина. – М.: Антиква, 1993. – С.115-150.
- Агибалов, A. K. К вопросу о стратегии формирования активных речевых действий вне геоязыковой среды изучаемого языка / A. K. Агибалов // Русский язык. Литература. Страноведение. Методика. – Р. Корея: АНЯНГ, 2000. – С. 4-9.
- Алёшина, Е. Ю. Жанровые особенности публичной политической речи (на материале американской политической риторики) / Е. Ю. Алёшина // Университетский научный журнал, 2016. – № 21. – С.51-58.
- Башкова, И. В. Изучение языковой личности в современной российской лингвистике / И. В. Башкова. – Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. – С. 22-31.
- Войтасик, Л. Психология политической пропаганды / Л. Войтасик. – М.: Прогресс, 1981. – С. 223-224.
- Голев, Н. Д., Сайкова, Н.В. Лингвоперсонология: проблемы и перспективы / Н. Д. Голев, Н. В. Сайкова // Вопросы лингвоперсонологии: межвузовский сб. научных трудов. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007. – Ч. 1. – С.7–11.
- Даулетова, В. А. Автоимидж языковой личности / В. А. Даулетова. - Языковая и межкультурная коммуникация. – Майкоп: Адыгейский гос. ун-т, 2004. – № 2. – С. 42–47.
- Денисюк, Е. В. Манипулятивное речевое воздействие: коммуникативно-прагматический аспект: специальность 10.02.01 «Русский язык»: диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Денисюк Е. В. – Уральский государственный университет имени A. M. Горького. – Екатеринбург, 2004. – 21 с.
- Джеймс, Дж. Эффективный самомаркетинг: Искусство создания положительного образа / Дж. Джеймс. – М.: Информ.-изд. дом «Филинъ», 1998. – 125 с.
- Зигманн, Ж. В. Структура современного политического дискурса: Речевые жанры и речевые стратегии: специальность 10.02.01 «Русский язык»: диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Зигманн Ж.В. – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – М., 2003. – 24 с.
- Иссерс, О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 284 с.
- Карасик, В. И. Язык социального статуса / В. И. Карасик. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2002. – 333 с.
- Караулов, Ю. Н., Филиппович, Ю.Н. Лингвокультурное сознание русской языковой личности. Моделирование состояния и функционирования / Ю. Н. Караулов, Ю. Н. Филиппович. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2009. – 336 с.
- Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М.: ЛКИ, 2010. – 264 с.
- Китайгородская, М.В., Розанова, Н.Н. Русский речевой портрет. Фонохрестоматия / М. В. Китайгородская, Н.Н. Розанова. – М.: Наука, 1995. – 128 с.
- Крысин, Л. П. Русское слово, свое и чужое / Л. П. Крысин. – М.: ЯСК, 2004. - 888 с.
- Матвейчев, О. Уши машут ослом: Сумма политтехнологий / О. Матвейчев. – М.: Эксмо, 2009. – 512 с.
- Меркурьева, В. Б., Реализация речевых стратегий в политическом дискурсе (на примере предвыборных лозунгов парламентских выборов ФРГ) / В. Б. Меркурьева // Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии: сб. материалов 23-й Всероссийской научно-методической конференции. - Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2018. - С. 304-308.
- Мустайоки, А. Причины коммуникативных неудач: попытка общей теории / А. Мустайоки // Русский язык за рубежом. – 2011 – № 4. – С. 76–86.
- Осетрова, Е. В. Речевой имидж: учебно-методическое пособие / Е. В. Осетрова. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012 – 104 с.
- Седов, К. Ф. Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции / К. Ф. Седов. – М.: Лабиринт, 2004. – 317 с.
- Труфанова, В. Я. Речевой портрет говорящего на фоне интонационной системы языка / В. Я. Труфанова // Вопросы русского языкознания: Вып. XI. Аспекты изучения звучащей речи: Сборник научных статей к юбилею Елены Андреевны Брызгуновой. – М.: МГУ, 2004. – С. 197-213.
- Шмелева, Т.В. Медиалингвистика как медийное речеведение // Медиатекст как полиинтенциональная система: сб. статей. – СПб..: Санкт-Петербургский государственный университет, 2012. – С. 56-61.
- Янко, Т. Е. Коммуникативные стратегии русской речи / Т. Е. Янко. – М.: Яз. славян. культуры, 2001. – 382 с.