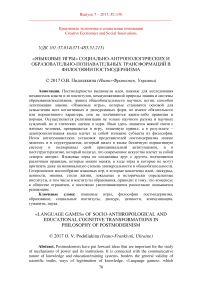«Языковые игры» социально-антропологических и образовательных когнитивных преобразований в философии постмодернизма
Автор: Подолякина Ольга Васильевна
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Статья в выпуске: 2 (19), 2017 года.
Бесплатный доступ
Постмодернисты выдвинули идеи, важные для исследования механизмов власти и ее институтов, коммуникативной природы знания и системы образования/воспитания, границ общеобязательности научных истин, способов легитимации знания. «Языковые игры», которые становятся основой для осмысления всех когнитивных и дискурсивных форм, не имеют обязательного или нормативного характера, они не подчиняются каким-либо правилам и нормам. Осуществляется релятивизация не только научного разума и научных суждений, но и этических оценок и норм. Язык здесь лишается всякой связи с жизнью человека, превращается в игру, лишенную правил, а в результате -деантропологизация языка влечет за собой изгнание субъекта из философии. Исток антигуманистских установок представителей постмодернизма можно заметить и в структурализме, который видел в языке безличную нормативную систему и подчеркивал свой принципиальный антигуманизм, и в постструктурализме, который полагал, что современное искусство влечет за собой «смерть автора». Языковые игры не соединимы друг с другом, подчиняются различным правилам, которые можно менять в ходе игры и которые не могут притязать даже на минимальную степень универсальности и общеобязательности. Гетерономное многообразие языковых игр, в которые вовлечены идеи, дискурсы, ценности, мнения, стили жизни, локальные и исторически определенные институты, в том числе и институты образования, приводит к тому, что консенсус в обществе ограничен, а постоянно увеличивающееся разногласие оказывается решающим.
Языковые игры, философия постмодернизма, образование, социальные институты, дискурс, ценности, коммуникация, гуманизм, наука
Короткий адрес: https://sciup.org/14239117
IDR: 14239117 | УДК: 101:37.014(371:485.51.215)
Текст статьи «Языковые игры» социально-антропологических и образовательных когнитивных преобразований в философии постмодернизма
Постмодернистская философия (и ее соответствующие модели, такие, в частности, как социальная философия, философия образования, лингвистическая философия, философия истории и др.) возникла в конце 1970-х гг. в европейских странах, прежде всего во Франции, как антитеза культуре, базирующейся на ценностях и идеалах Просвещения, и выдвинула в качестве ядра культуры понятие «языковой игры» . Это понятие было введено Л. Витгенштейном в «Философских исследованиях» для того, чтобы подчеркнуть, что «говорить на языке – компонент деятельности или форма жизни» [1, с.90]. Он выделил многообразие «языковых игр» – от языка приказов и вопросов до более сложных символических форм языка науки, подчеркнув, что существует многообразие форм речевой практики, способов применения языка. Представители постмодернизма обратились к этому понятию для того, чтобы выявить истоки репрессивных социальных институтов, авторитарности власти вообще. Эти истоки они усматривают в идее разума, из которой исходила философия Просвещения, в том числе и просветительская педагогика.
Постмодернисты выдвинули идеи, важные для исследования механизмов власти и ее институтов, коммуникативной природы знания, границ общеобязательности научных истин, способов легитимации знания, но прежде всего, довели до логического конца и тем самым до абсурда идеи, которые были развиты в философии XXв., в частности критику классического разума и классической
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations метафизики, расширение трактовки принципа рациональности, отказ от критериев общеобязательности и объективности, поворот к антропологии и к осознанию роли коммуникации в жизни человека, осмысление фундаментальной роли языка в познании и в самом бытии человека. Вместе с тем постмодернизм не просто универсализировал и применил идеи современной философии, но и радикализировал их, превратив их в средство политической и идейной борьбы против социальных институтов, против ценностей и норм вообще.
Постмодернизм выражает собой нигилистический комплекс, который всегда сопровождал и сопровождает успехи научно-технического знания, утверждение ценностей и норм современного общества. Этот нигилистический комплекс, возникший еще со времен Ф.Ницше, предполагает не столько переоценку всех ценностей, сколько отказ от классических ценностей и норм, выдвижение на первый план бессознательной субъективности, подчеркивание приоритетности витальных, эмоциональных и телесных потребностей человека и превращение рациональности и даже языка в средство репрессивного подавления чувственности и эмоциональности. Поэтому подлинные истоки репрессивности власти они усматривают в языке, который закабаляет человека и разрушает его личностное существование.
«Языковые игры», которые становятся оселком для осмысления всех когнитивных и дискурсивных форм, не имеют обязательного или нормативного характера, они не подчиняются каким-либо правилам и нормам. Они произвольны, как произвольны и выбор человека, и его эмоциональные переживания, и его витальные потребности.
Человек не должен искать каких-либо форм самоидентификации. Если предшествующая философия и педагогика считали, что ядро личности, личностное самосознание сохраняется благодаря тому, что человек отождествляет себя или с Разумом, или с государством, или с национально-этническими общностями, то постмодернизм отвергает саму необходимость такой самоидентификации. Сам этот поиск свидетельствует о «неподлинности» существования человека и оборачивается бегством от свободы. Человек никогда не может быть тождественным себе. Он всегда есть непрерывный поток становления и изменения, момент в коммуникации с другими людьми. Необходимо отказаться от поиска какой бы то ни было устойчивости в бытии человека, осознать его коммуникативность и пластичность в актах коммуникации, невозможность выталкивания из этих ком-
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations муникативных и вариативных форм любых норм, ценностей и регулятивов, имеющих облигативный (обязательный) характер.
Постмодернизм отрицает то, что у человека может существовать общая или единая природа, конструируя образ человека, лишенного всякой способности к идентификации, движимого бессознательными стремлениями и подчиненного различного рода безличным структурам, в конечном счете, структурам языка. Природа человека растворяется в лабильных, изменчивых актах коммуникации, а сами акты коммуникации не подчиняются каким-либо нормам, спонтанны и самопроизвольны.
Наука и образование также принадлежат к языковым играм , в которых нельзя достичь ничего, что имело бы характер общеобязательности и подчинялось бы каким-либо нормам. Решающая характеристика постмодернистского мышления – подчеркивание радикального плюрализма языковых игр. Так, согласно В. Риз-Шефер, постмодернизм – «это сознание, которое не ждет какого-либо примирения между различными языковыми играми» [3, с. 44]. В.Велш – один из теоретиков постмодернизма в педагогике – усматривает в плюрализме важнейшую характеристику постмодерна: плюрализм «более не коренится и не притупляет почву общего согласия, но касается любой такой почвы» [4, с. 14]. Для других представителей постмодернизма в педагогике постмодернизм – это установка сознания, предполагающая радикальное переосмысление тех оснований, на которых строится все здание европейской культуры и цивилизации.
Постмодернизм решительно противопоставляет ценностям и нормам модерна новые ценности. Среди ценностей модерна, с которыми постмодернисты намереваются покончить, они особо выделяют культ разума, свободы и науки. Так, Ю. Хабермас видел в проекте модерна прежде всего стремление к эмансипации человечества благодаря осуществлению универсальных просветительских ценностей. Именно этот проект модерна и вызывает критику со стороны постмодернистов и различные попытки его разрушить. Он должен быть ликвидирован, как заметил Лиотар [5, с. 33]. Решающая черта постмодернистской философии – разрыв с любой идеологией Нового времени, с духовно-историческими основаниями культуры Нового времени, которые отождествляются с идеями прогресса, свободы и науки.
М. Фуко говорил о смерти человека, подчеркивая тем самым, что постмодернистская эпоха порывает с идеалами эпохи Просвещения и 79
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations с гуманистическим образом человека. Гуманитарные науки выполняют функцию подавления человека, являясь средством безличных структур власти. В гуманизме постмодернисты усматривают исток и нормативную основу демократического общества, которые необходимо отвергнуть, поскольку они притязают на общеобязательность и универсальную значимость.
Критика гуманизма составляет одну из важнейших характеристик программы деструкции Нового времени и разрушения проекта модерна. Как и для представителей критической социологии (Т. Адорно и М. Хоркхеймера), так и для постмодернистов рационализм невозможен после Освенцима. Как сказал Лиотар, «словом, которое выражает конец идеала разума, является слово «Освенцим» [5, с.161].
Гуманизму постмодернизм приписывает отстаивание холодного расчета, идею подчинения внутренней и внешней природы человека требованиям, которые выдвинуты наукой и техникой, превращение буржуазных ценностей в общезначимые и универсальные. Для всех постмодернистов характерно страстное неприятие всякой универсальности – норм, правил, принципов, ценностей. А. Хоннет говорит об аффекте против всеобщего как основной черте постмодернизма [6, с. 600]. Антигуманизм постмодернизма связан, прежде всего, с его идеями деструкции субъекта и смерти человека. Они-то и ведут к провозглашению «конца педагогики» [7, с. 33].
М. Фуко – признанный лидер постмодернистов, писал: «Я понимаю под гуманизмом совокупность дискурсов, которые внушают европейскому человеку: «Если ты не обладаешь властью, то ты не можешь быть суверенным. Ведь чем ты больше отказываешься от обладания властью и чем больше ты подчинен власти, которая господствует над тобой, тем сувереннее ты должен был быть». Гуманизм – это система изобретений, которые построены вокруг этой порабощающей суверенности: душа (суверенна относительно тела, подчинена Богу), совесть (свободна в сфере суждения, подчинена порядку истинности), индивид (суверенен в обладании своими правами, подчинен законам природы или нормам общества), фундаментальная свобода (внутренне суверенна, внешне согласна с судьбой).
Короче говоря, гуманизм – это все то, благодаря чему в Европе прикрываются требования власти, благодаря чему воле к власти запрещается с помощью исключения некоторых возможностей стать властью. Ядро гуманизма – теория субъекта (в двояком смысле – как суверена и как подданного). Поэтому Европа отвергает все то, что 80
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations может взорвать эти запоры, для чего существуют два метода: «раскрепощение» воли к власти, т. е. политическая борьба как классовая борьба, или попытка деструкции субъекта как псевдосуверена, т.е. культурная атака. Снятие сексуальных табу, границ, разделений, практика социальной жизни, снятие запретов на продажу товаров в аптеке, взламывание всех и всяческих запретов и запоров, с помощью которых конституируется и утверждается нормативная индивидуальность» [8, с. 94]. Имеются в виду и запреты на продажу наркотиков.
Любой образ человека, любое Я оказывается для постмодернизма пустой фикцией, как говорил Фуко [8, с. 86]. «В наше время можно мыслить лишь в пустоте исчезающего человека» [9, с. 412]. Исток антигуманистских установок представителей постмодернизма можно заметить или в структурализме, который видел в языке безличную нормативную систему (например, К. Леви-Строс) и подчеркивал свой принципиальный антигуманизм (как это делал, например, Л.Альтюссер), или в постструктурализме, который полагал, что современное искусство влечет за собой «смерть автора» (Р. Барт).
Одно ясно, что язык здесь лишается всякой связи с жизнью человека, превращается в игру, лишенную правил . Как правильно указал педагог Г.Мертенс, «деантропологизация языка влечет за собой изгнание субъекта из философии» [10, с.90]. Как верно было подмечено одним из критиков постмодернизма, «больше нет архимедовой точки опоры, нет основания, которое позволило бы все упорядочить, помыслить и оказать воздействие с помощью измеримых результатов. Больше не существует устойчивых критериев для истинности суждений, для оправдания действий или направленности интенций, ни для оценки моего действия кем-то третьим, ни мною самим. Рядом с миром модерна выступает плюральность миров, наряду с непрерывностью (пространства, времени, качества) – прерывность» [11, с.374].
М.Фуко в своей книге «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» говорил о тюрьме в широком и узком смысле слова. Критики постмодернизма обращают внимание на то, что Фуко относит к тюрьмам и лицеи, и школы, и казармы, и психиатрические больницы. Они вполне справедливо упрекают Фуко в искажении истории, поскольку вся история рассматривалась им как репрессивный процесс, а все многообразие социальных институтов лишь под односторонним углом зрения – усиления дисциплинарных механизмов и репрессивного господства. На историю 81
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations дисциплинарных институтов можно и нужно посмотреть и другими глазами, а именно показать, как репрессивные механизмы контроля постепенно изживались, сменялись другими или замещались более гуманными правовыми формами контроля. Это характерно и для гуманизации психиатрической практики конца XVIII – начала XIX века, которая связана с именами Ф. Пинеля во Франции, С.Тука в Англии, и для гуманизации тюремного надзора, которая, например, в XIX – первой половине XX вв. в России была представлена именами Ф.П. Гааза, А.Ф. Кони, русско-украинского педагога и мыслителя К.Д. Ушинского; в СССР, Украине – А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др. Это же относится и к социальным институтам образования вообще, и к школе в частности. Ведь современная школа отличается от той, которая описана, например, Ч. Диккенсом.
По мнению постмодернистов, школа (в понимании системы образования в целом) также принадлежит к тем социальным институтам, которые репрессивны по своему характеру и призваны дисциплинировать ребенка. Школа стремится любым способом подчинить ребенка действующим нормам и законам. Эти нормы и законы репрессивны и предписывают человеку то, как он должен поступать, то, как он должен мыслить и чувствовать. «Любое общество имеет свой собственный порядок истины, свою «общезначимую» политику истины: то есть оно делает акцент на определенные виды дискурса, которые позволяют ему функционировать в качестве истинного дискурса; существуют механизмы и инстанции, которые делают возможным разграничение истинных и ложных высказываний и определяют модус, в котором санкционируются одни или другие; существуют приоритетные техники и процедуры нахождения истины; существует специфический статус для тех истин, которые уже обретены, определения того, являются ли они истинными или нет» [12, с. 51].
Фуко связывает дисциплинарные институты общества с дисциплинаризацией тела, со стремлением манипулировать телом, с превращением его в послушное для власти. «Человеческое тело вступает в механизмы власти, которые тщательно обрабатывают его, разрушают его порядок и собирают заново». Различные методы дисциплинаризации тела «начали действовать в коллежах, позднее – в начальных школах, постепенно они захватывают больничное пространство и за несколько десятилетий перестраивают военную организацию» [13, с.201-202]. Механизмы дисциплины связаны с искусством распределений – искусством локализации, или 82
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations отгораживания одних от других, ранжирования, поскольку дисциплина «индивидуализирует тела посредством локализации, которая означает не закрепление их на определенном месте, а их распределение и циркулирование в сети отношений» [13, с.213].
Под этим углом зрения Фуко рассматривает эволюцию классной организации в школе. В иезуитских школах учебный класс охватывал группы по десять человек, т.е. организация школы повторяла организацию римской армии. Позднее определяет способ организации школьного коллектива уже «ранг, присваиваемый каждому ученику в результате каждого задания или испытания» [13, с.214]. Дисциплинарные механизмы власти, в т.ч. и школа, включают в себя и механизмы контроля за деятельностью (распределение учебного времени, контроль за корреляцией жеста и тела, регламентация осанки, телесных движений и др.), и формы предписаний движений, и способы принуждения к упражнениям и к кооперации усилий. «Дисциплинарная власть не координирует силы для того, чтобы их ограничить, – она стремится объединить их таким образом, чтобы преумножить и использовать... Она «муштрует» подвижные, расплывчатые, бесполезные массы тел и сил, превращая их в множественность индивидуальных элементов... Дисциплина «фабрикует» личности, она специфическая техника власти, которая рассматривает индивидов и как объекты власти, и как орудия ее отправления» [13, с. 248]. Обращает на себя внимание то, что ребенок до школы для Фуко – это расплывчатая и бесполезная масса тела, лишенная индивидуальности. Из нее школа «лепит», «фабрикует» индивидуальность как элемент системы власти.
Для Фуко не существует общеобязательности и универсальности норм и ценностей, а только множество единичных (сингулярных) дискурсов. Согласно Фуко, археология гуманитарных наук призвана исследовать механизмы власти, которые пронизывают тела, жесты и формы поведения человека. Межличностные отношения проникнуты отношениями власти, в любой точке социального тела, в отношениях между мужчиной и женщиной, в отношениях внутри семьи, между учителем и учеником, между тем, кто знает, и тем, кто не знает, существуют отношения власти. Необходима новая переоценка ценностей, радикальное отрицание фундаментальных ценностей европейской культуры, деструкция социальных институтов европейской цивилизации для того, чтобы утвердить сингулярность (единичность), уникальность и несоизмеримость дискурсов, или языковых игр.
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Образ человека, который неявно присутствует в постмодернистских разработках и который не артикулируется в них, – это образ человека, не способного достичь самоидентификации, подчиняющегося страстям и аффектам, но не разуму, не способного контролировать свои чувства и живущего в симулякрах-фантазмах, далеких от реальности, непрозрачных и все более и более отдаляющихся от реальности. Можно сказать, что образ человека, который присущ постмодернизму, – это образ психотика, психопатологической личности, жизнь которой распадается на ряд нестыкующихся ситуаций и не подчиняется какой-либо единой линии. Как заметили Ферри и Рено, «антигуманизм мышления 1968 г. впадает в варварство, а именно в том смысле, что процесс, направленный против субъективности, разрушает любую возможность подлинного диалога между сознаниями и не в состоянии мыслить их различие на основе их тождества: ведь все, что остается, ведет к заострению индивидуальных различий, когда каждый воспринимает другого как «совершенно Другого», следовательно, как «варвара» [2, с. 130].
Постмодернистская философия выступает с критикой науки, которая делается ответственной за обезличивание и отчуждение человека. Так, согласно В. Велшу, научное знание, начиная с Р. Декарта, «точная наука, mathesis universalis, систематическое овладение миром, научно-техническая цивилизация – это одна линия, ведущая к нам», именно с Декарта начинает господствовать основной тип инструментального разума, и Новое время связано с такого рода господством [14, с. 69-70].
Критика науки, развернутая современными постмодернистами, заключается, прежде всего, в том, чтобы рассмотреть ее как идеологию и инструмент власти. Научное знание теряет статус объективного, незаинтересованного знания, свою объективную значимость и становится выражением лишь воли к власти – над природой, над другим человеком, над собой. Так, для Фуко воля к знанию – это выражение воли к власти. Наука – лишь средство дисциплинаризации человека, навязывания ему внешних норм, которые превращаются во внутренние регуляторы его поведения, его мыслей и чувств. По его мнению, следует исходить не из противопоставления научности и ненаучности, а из того, что «в нашем обществе действия науки, направленные на истину, являются одновременно и действиями власти» [15, с. 87]. Смешивая две области – с одной стороны, область собственно научных исследований и 84
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations применения знаний на практике, в технократическом дискурсе (если использовать терминологию Фуко), и с другой - институты и процессы осуществления власти, постмодернизм делает науку ответственной за все прегрешения власти – за ее репрессивность, обезличенность, отчужденность и т.д. Наука превращается тем самым в идеологию, в пластичное воплощение идей властвующих элит.
Наука – один из дискурсов, который использует власть для достижения политических целей. Ж.-Ф. Лиотар видит в науке одну из форм «языковой игры», не имеющей объективного, общеобязательного смысла. «Научное знание – это вид дискурса... Знание не сводится к науке и даже вообще к познанию. Познание можно трактовать как совокупность высказываний, указывающих на предметы или описывающих их... и, по отношению к которым можно сказать, верны они или ложны» [16, с. 15,51].
Наука – это языковая игра с денотативной прагматикой , т.е. она употребляет слова, которые нечто обозначают. Но она притязает на прескриптивную (предписывающую) значимость. Денотативные и прескриптивные языковые игры принципиальным образом отличаются друг от друга. Их смешение, объединение двух языковых игр в одной игре недопустимо. Лиотар и предлагает «очистить» науку как языковую игру от пре-скриптивных высказываний. «Между тем виды языка, как и живые виды, вступают между собой в отношения, и, надо признать, не всегда гармоничные. Другая причина, которая может оправдать беглое напоминание характеристик языковой игры науки, касается конкретно ее соотношения с нарративным знанием.
Нарративное знание – знание, выраженное в различного рода повествованиях. Это последнее не придает большого значения вопросу своей легитимации; оно подтверждает само себя через передачу своей прагматики и потому не прибегает к аргументации или приведению доказательств. Именно поэтому оно соединяет непонимание проблем научного дискурса с определенной толерантностью к нему: оно рассматривает его лишь как разновидность в семье нарративных культур. Обратное неверно. Научное задается вопросом о законности нарративных высказываний и констатирует, что они никогда не подчиняются аргументам и доказательствам» [16, с. 69-70].
Научная и нарративная языковая игра хотя и отличаются друг от друга (хотя бы тем, что научный дискурс империалистичен, как говорит Лиотар, поскольку он стремится из денотативного превратиться в прескриптивный, навязать свои правила аргументации 85
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations и доказательности всему знанию), но все же нарратив оказывается формой легитимации знания, которое, будучи связано с механизмами власти, притязает на прескриптивную значимость. Гуманитарные науки не обладают и не могут обладать какой-либо общезначимостью, они неразрывным образом зависят от системы принуждения относительно тел, жестов и форм поведения.
В антропологизации Фуко усматривал основную опасность для знания. «...Собственная суть гуманитарных наук заключается не в человеке как привилегированном, по-особому сложном объекте. Создает их и отводит им особую область вовсе не человек, а общая диспозиция эпистемы; именно она находит им место, призывает и утверждает их, допуская тем самым постановку человека в качестве объекта» [17, с. 462]. Человек не является и не может являться объектом гуманитарных наук. Представление о человеке как объекте исследования гуманитарных наук, в т.ч. и педагогики, – это заблуждение, определенная диспозиция знания, которая может и должна со временем измениться. В этой связи Фуко критикует психоанализ и этнологию, которые полагают, что исследуют природу человека. «Идея «психоаналитической антропологии» или возобновляемая этнологией идея «человеческой природы» суть лишь благие пожелания. На самом же деле они не только могут обойтись без понятия о человеке, они просто не могут им воспользоваться, поскольку они всегда обращены именно к тому, что ограничивает его извне... обе науки растворяют человека» [17, с. 479].
Другая отличительная черта постмодернизма – разрыв с историей. Разговоры о «конце истории», начатые еще Фукуямой, были восприняты постмодернистами как свидетельство конца традиции, ориентации на традиции и, соответственно, как свидетельство конца историчности и идеи прогресса. Историчность отождествляется ими с идеей прогресса, выдвинутой эпохой Просвещения. История лишается любой внутренней связи и превращается в набор отдельных историй, не объединенных между собой и не предполагающих каких-либо нитей преемственности. Историческая наука с ее идеями прогресса, всемирной истории рассматривается лишь как орудие власти, как одна из технологий власти.
История представляется, например, Фуко, как расширение поля власти, которая пронизывает все и вся. Даже душа человека – форма проявления власти, коррелят современной технологии власти. «Неверно было бы говорить, что душа – иллюзия или результат воздействий идеологии. Напротив, она существует, она имеет 86
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations реальность, она постоянно создается вокруг, на поверхности, внутри тела благодаря функционированию власти... Душа есть следствие и инструмент политической анатомии; душа - тюрьма тела» [13, с.4546].
Фуко стремится вскрыть за позитивными историческими процессами те, которые имеют негативное содержание, составляют темную сторону истории, для того чтобы показать, насколько они разрушительны. Так, он обращает внимание на то, что политическая победа буржуазии в XVIII в. была связана с установлением ясной, кодифицированной и формально эгалитарной юридической структуры, создавшей предпосылки для представительного парламента. «Но развитие и распространение дисциплинарных устройств стало обратной, темной стороной этих процессов. Общая юридическая форма, гарантировавшая систему в принципе равных прав, поддерживалась этими мелкими повседневными физическими механизмами, всеми теми системами микровласти, в сущности, не эгалитарными и асимметричными, которые и есть дисциплины... Эпоха Просвещения, открывшая свободы, изобрела и дисциплины» [13, с.325-326].
Понимание истории, неявно выраженное в книгах Фуко о рождении тюрьмы и рождении клиники, сопряжено с тремя установками. Во-первых, история распадается на множество несвязанных исторических ситуаций. Во-вторых, если что и соединяет эти исторические ситуации – расширение поля власти, диффузия власти и репрессивных механизмов во всех порах и клетках социального тела. Наконец, в-третьих, стремление заместить исторические методы генеалогией. Можно по-разному оценивать подход к истории, который развивался Фуко. Но нельзя не прислушаться к той весьма критической оценке его трактовки истории, которая дана, например, Ферри и Рено – французскими критиками постмодернизма: «На всем протяжении исследования об истории безумия, решающие мысли которого затем были применены в истории наказания, была развернута огромная фальсификация, в которой история Нового времени односторонне изображается как некий многосторонний процесс репрессий» [2, с.108]. И такого рода оценка весьма широко распространена в наши дни в странах, еще недавно видевших в постмодернизме новый поворот в философии вообще и в философии образования, в частности.
Критика науки постмодернистами неразрывно связана с нападением на разум, который обвиняется в том, что ориентирован на 87
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations пытку природы, на господство над ней и приводит к формированию структур власти и подчинения. Разум не только утрачивает всякую универсальность, но, более того, он превращается лишь в характеристику одной языковой игры. Это подобно некому симулякру, скрывающего подлинные мотивы и интересы.
Языковые игры не соединимы друг с другом, подчиняются различным правилам, которые можно менять в ходе игры и которые не могут притязать даже на минимальную степень универсальности и общеобязательности. Осуществляется релятивизация не только научного разума и научных суждений, но и этических оценок и норм. Они превращаются в локальные сделки, микроязыковые игры, которые не могут и не должны иметь объективного и облигативного значения. Как заметил немецкий философ Э. Тугендхат, «мы больше не можем высказывать моральные суждения, так как мы не можем фиксировать в моральных суждениях требование, внутренне им присущее, объективное, т. е. нерелевантное личностям» [18, с. 22].
Критики постмодернизма указывают на то, что «генеалогическая программа отрицания субъективности ведет к чрезвычайно опасному разрушению идеи гуманности», поскольку постулат конститутивного единства человека все более и более ставится под вопрос как метафизический [2, с. 33]. Вместо усилий мысли – спонтанность, вместо ответственности – произвол, вместо регулятивных норм – консенсус, вместо ценностей – договоренности, не имеющие обязательного характера и, не предполагающие доверия и ответственности, вместо реальности – симулякры , вместо интенциональности – коммуникативность , вместо истины – убеждение. Таково кредо постмодернистской философии, вообще, и постмодернистской, в частности. Поэтому претензии постмодернистов на перестройку всей системы образования – это строительство здания без всякого фундамента на зыбучем песке.
Гетерономное многообразие языковых игр, в которые вовлечены идеи, дискурсы, ценности, мнения, стили жизни, локальные и исторически определенные институты, в том числе и институты образования, приводит к тому, что консенсус в обществе ограничен, а постоянно увеличивающееся разногласие оказывается решающим.
Список литературы «Языковые игры» социально-антропологических и образовательных когнитивных преобразований в философии постмодернизма
- Витгенштейн Л. Философские работы. Ч.1. М.: Гнозис, 1994. 612 с
- Ferry L., Renault А. Antihumanistisches Denken. Gegen die Französischen Meisterphilosophen. München; Wien: Hanser, 1987. 262 s.
- Reese-Schäfer W. Lyotard zur Einführung. -Hamburg: Junius Verlag 3. überarbei-tete Aufl., 1996 (zuerst 1988, 2. Aufl. 1989). 187 s.
- Wege aus der Moderne: Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion/Hrsg. W. Welsch. Weinheim: VCH, 1988. 322 s.
- Lyotard J.-F. Postmoderne für Kinder. Briefe aus den Jahren 1982-1985/JeanFrancois Lyotard. Hrsg. von Peter Engelmann. Aus d. Französischen von Dorothea Schmidt (Le Postmoderne expliqué aux enfants). Wien: Passagen Verlag, 1996 (2. Aufl.). -137 s.
- Honneth A. Das Affekt gegen das Allgemeine. Zur Lyotards Konzept der Postmoderne//Merkur. Bd.38, 1991. Hf. 8. S. 591-604.
- Heitger M. Über die Notwendigkeit einer philosophischen Begründung von Pädagogik//Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik. 1992. Bd. 68, Hf. 1. S. 31-38.
- Foucault M. Gespräch zwischen M. Foucault und Studen-ten//Von der Subversion des Wissens. Frankfurt am Main: Fischer, 1987. 178 s. S. 46-68.
- Foucault M. Die Ordnung der Dinge. Frankfurt am Main: Campus Verlag, 1990. 469 s.
- Mertens G. Verbindliche Argumentation in der Pädagogik?//Pädagogische Rundschau. 1991. Vol. 45. S. 81-100.
- Reijen W. van. Das unrettbare Ich//Die Frage nach dem Subjekt/Hrsg. M. Frank, G. Raulet, v. Reijen. -Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988. S. 80-102.
- Foucault M. Wahrheit und Macht//Dispositive der Macht. Berlin: Merve, 1978. 232 s.
- Фуко M. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. 479 с.
- Welsch W. Unsere postmoderne Moderne. Weinheim: VCH Acta humaniora, 1988. 346 s.
- Foucault M. Die gesellschaftliche Ausweitung der Norm//Mikrophysik der Macht: Über Strafjustiz, Psychiatrie und Medizin. -Frankfurt am Main/Berlin/Wien: Merve, 1976. 397 s. S. 83-92.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. Спб.: Алетейя, 1998. 160 с.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М.: Прогресс, 1977. 488 с.
- Tugendhat Е. Vorlesungen über Ethik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994. 199 s.