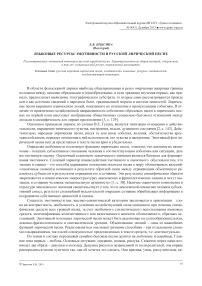Языковые ресурсы эмотивности в русской лирической песне
Автор: Брысина Евгения Валентиновна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 9 (43), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается эмотивный потенциал русской народной песни. Характреизуются их общий настрой, содержание, а так же эмоциональный ресурс, выраженный имплицитно.
Русская народная лирическая песня, эмотивность, языковые ресурсы эмотивности, воздействующий потенциал
Короткий адрес: https://sciup.org/14822437
IDR: 14822437
Текст научной статьи Языковые ресурсы эмотивности в русской лирической песне
В области фольклорной лирики наиболее общепризнанная и резко очерченная жанровая граница положена между песнями обрядовыми и (в)необрядовыми, и если традиция изучения первых, как правило, предполагает выявление этнографического субстрата, то вторые сами рассматриваются прежде всего как источник сведений о народном быте, традиционной морали и системе ценностей. Лирические песни выражают взаимосвязи людей, показывают их отношение к происходящим событиям. В отличие от практическо-хозяйственной направленности собственно обрядовых песен в лирических песнях на первый план выступает изображение общественных (социально-бытовых) отношений между людьми в специфическом для лирики преломлении [3, с. 129].
Основным признаком лирики, по словам В.Е. Гусева, является типизация отношения к действительности, выражение типического чувства, настроения, мысли, душевного состояния [2, с. 143]. Действительно, народная лирическая песня, рисуя те или иные события, явления, обстоятельства крестьянской жизни, передает отношение к ней исполнителя, его чувства и настроение. Эмотивный фон лирической песни всегда представлен в тексте песни ярко и убедительно.
Определяя особенности и основную функцию лирических песен, отметим, что основное их назначение – показать субъективное отношение человека к соответствующим событиям или ситуации, дать им эмотивную оценку. Оценочный компонент лексического значения является базовым для формирования эмотивного. Сложный характер взаимодействия эмотивного и оценочного обусловлен тем, что эмоция и оценка – это способы выражения отношения носителя языка к миру обозначаемых явлений: «оценочные элементы возникают в результате обратной связи между отражающим объективную реальность субъектом и результатом отражения его в сознании. Эти результаты специфическим образом закрепляются в семантических микроструктурах лексических и фразеологических единиц и могут вызывать в сознании человека эмоциональную активность» [1, с. 38]. Наличие оценочного компонента в структуре лексического значения свидетельствует о том, что в лексической семантике заложен субъективный смысл, результат сложнейшей мыслительной операции: сознание обрабатывает информацию в координатах собственных ценностей и оценок.
Сущность эмотивности как лексико-семантической категории заключается в ориентации слова на контрастность, необычность, в усилении воздействующей силы сказанного при помощи специфических средств всех уровней языка, за счет необычного стилистического использования языковых средств, интенсификации количественного или качественного аспектов обозначаемого, образных ассоциаций. Эмотивный потенциал лирической песни может быть реализован на словообразовательном, лексико-фразеологическом и синтаксическом уровнях. Объективация эмоций – одна из важнейших функций лирической песни. Реализовываться она может разными способами – как отдельными словами и выражениями, так и всей совокупностью представленных в тексте средств, т.е. контекстуально.
По темам и составу персонажей семейно-бытовые песни делятся на любовные и семейные. Главная тема первых – любовь. Основные ситуации: свидание, измена, разлука. Сюжетно перед нами возникает два образа – девушки и молодца. Девушка рисуется независимой от воли родителей, она вправе распорядиться своим чувством так, как ей хочется это сделать. Она красива, умна, рассудительна, ве- дет себя правильно. Таков же и молодец. Он влюбчив, умен, красноречив; не в его правилах обижать любимую. Любовь ведет его к браку.
Все песни, рисующие любовь в оптимистических тонах, нравоучительны. Показывая равноправие во взаимоотношениях красных девушек и добрых молодцев, их уважение друг к другу и вполне определенное значение любви для создания семьи, песни воспитывали у молодежи чувство собственного достоинства, осознание своего права на любовь, уважение друг к другу.
Особенно ярко эта сторона лирических песен проявилась в песнях, в которых прямо высказывались советы молодежи о том, за кого можно выходить замуж и на ком можно жениться, ср.:
Ешь, коник, да траву зеленую –
Привези мне да жену молодую:
Белую да румяную,
Да девочку разудалую!
(«Что и в лузе – да на перевозе…» [3, с. 241])
Песни предупреждают девушек о будущих невзгодах, которые могли ожидать их из-за того, что брак в крестьянской патриархальной семье, как правило, создавался по воле родителей, а родители, имея в виду выгоду, могли отдать дочь и за старого, и за малого. В связи с этим многие песни рассказывают о нежелании девушек выходить замуж за стариков и парней, моложе их. Песни по-разному варьируют показ своего отношения к неравным в возрастном плане бракам, но суть этого отношения одна: песни осуждали такие браки и предупреждали молодежь о невозможности счастья в них.
Старому, старому,
Старому венок не сносить,
Мою молодость, мою молодость,
Мою молодость не сдержать!
(«Ай во поле, ой во поле…» [Там же, с. 244])
Эта же проблема стояла перед «добрыми молодцами». Например, песни рассказывают как о невозможных браках со «старухами».
Мне жениться-разориться,
Стару ба[б]ушку взять,
На печи ее держать,
Киселем ее кормить,
Молоком ее поить:
С киселя-то весела,
С молока-то – молода!
(«У ворот, ворот…» [Там же, с. 242])
В некоторых песнях осуждались браки со вдовами ( не женись, холостой, не женись, молодец, на вдове своенравной! ).
Эмотивный потенциал подобного рода текстов заключен уже в денотате: крайне нежелательной ситуации социально (возрастно) неравной женитьбы (замужества). Денотат можно рассматривать в качестве внутреннего ресурса лексической эмотивности, не преувеличивая его роли в формировании эмотивных свойств единицы как прямой, так и косвенно-производной номинации. Основными языковыми средствами, поддерживающими эмотивный фон песен, являются ряды контекстуальных синонимов типа молодая , белая, румяная, разудалая ; кисель, молоко; поить , кормить; молода, весела и под., в целом сводящиеся к семантическим оппозициям «молодой / старый», «жениться / разориться». На синтаксическом уровне высокий накал эмоций поддерживается традиционными повторами – как структурными, так и смысловыми: Старому, старому, Старому венок не сносить; Киселем ее кормить, Молоком ее поить и др.
Лирические песни учили молодежь вступать в браки, однородные и в социальном плане.
Дочь дворянская
Низко кланялась,
Низко кланялась –
Мне не нравилась:
«Я тебе, молодец,
В поле не работница,
Твоим ручушкам
Я не заменушка!»
(«Родимая матушка…» [3, с. 242])
Что же касается песен семейной тематики, то в них главная тема – неудачная женитьба или насильственное замужество, которое приводит к разладу в семье персонажей (муж, жена, свекор, свекровь, теща, тесть). Большая часть исследуемых песен повествует о тяжелой жизни женщины в патриархальной семье мужа. С одной стороны, ее трагическая жизнь объясняется в песнях взаимоотношениями с мужем, с другой – с его родными. Из родных мужа песни чаще всего описывают его родителей. Свекор и свекровь не любят сноху, притесняют ее, заставляют много и тяжело работать. Эмоционально-оценочны лексемы журливый, смутьянка, не любит :
А первое мое горе – свекор-т[о] журливый,
Ой, люшеньки-люли, свекор-т[о] журливый!
Другое-то мое горе – свекровь хлопотница,
Ой, люшеньки-люли, свекровь хлопотница!
А третье горе – золовка смутьянка,
Ой, люшеньки-люли, золовка смутьянка!
А четвертое мое горе – муж жену не любит,
Ой, люшеньки-люли, муж жену не любит!
(«Взойди-ка, взойди, солнышко, не низко – высоко…» [Там же, с. 233])
Образы же родителей жены, ее брата носят противоположный характер. Естественно, что замужняя женщина вспоминает о своем девичестве, о жизни в доме родителей как о самом счастливом времени. Поэтому они рисуются добрыми, сердечными, любящими – в противоположность свекру и свекрови. Эмотивность фольклорного текста здесь поддерживается разноуровневыми языковыми средствами: соответствующими эпитетами ( родимый, любезный, лихой, худой ), лексемами с оценочными суффиксами ( милёшенек, глупёшенек, батюшка, матушка , свекровушка, сыночек ), сравнительными конструкциями ( как роза цвела, как снег бела, словно груша зеленая, словно яблочко налитое ), семантическими оппозициями (прошлое – настоящее; хорошо – плохо, добрый – злой, любить – не любить, жалеть – губить), которые создаются совокупностью языковых средств:
Батюшка мой родимый,
Возьми ты меня
Опять и к себе:
Я у тебя была –
Как роза цвела,
А нынче стала –
Как снег бела!
(«А на горке дубок…» [Там же, с. 232])
Песни в качестве страдательного персонажа изобразили и мужа. Однако таких песен мало.
Я малешенек у матушки родился,
Я глупешенек у батюшки женился,
Привез себе жену молодую,
Словно грушу зеленую,
Словно яблочко налитое!
А жена-то молодчика не взлюбила,
Негодяем молодчика называла;
(«Я малешенек у матушки родился…» [3, с. 238])
И все же во многих песнях образ мужа представлен положительно. Он любит жену и защищает ее от нападок свекра и свекрови.
Сын ли, мой сыночек, сын любезный мой,
Что жену не учишь, людям не велишь? –
Взял со спицы плеть, повел жену в клеть,
Стегал по стене, сказал: по спине,
Стегал по пазам, сказал: по глазам,
Стегал по полену, сказал: по колену,
Стегал по перине, сказал: по Орине!
(«Лучина, лучина березовая…» [Там же, с. 236])
Несмотря на сложные взаимоотношения в семье, отраженные в содержании народной песни, все-таки направлена она на сохранение семейных традиций, поэтому часто в тексте сталкиваются противоположные оценки и эмоции:
Каково же жить без худа мужа?
Худо, худо жить за худым мужем,
Без худа мужа еще жить хуже!
(«Била жена мужа…» [6, с. 93])
Общий настрой русских народных лирических песен отличается повышенной эмоциональностью, глубиной передачи переживаний лирического персонажа, подробностью описания быта и отношений между родственниками. Причем следует отметить, что в данных текстах практически отсутствую дескрипторы эмоций. Эмоциональный ресурс песни чаще всего выражается имплицитно – через коннотативные семы лексических единиц, их оценочность и образность. Такой же формальный признак эмоциональной оценки, как уменьшительно-ласкательные суффиксы, в тексте песен зачастую амбивалентен, т.е. обретает способность выражать как положительные эмоции (родимый батюшка , родная матушка , сестричка ), так и имплицитно-негативные ( свекровушка , золовушка ). Причем использование одного и того же эмотивно-оценочного суффикса для наименования «своих» и «чужих» характеризует эмоциональное состояние героини песни, стремящейся «принять» мир «чужих», относится к нему как к «своему» при общей негативности эмоционального фона ситуации. Это и создает своеобразный эмотивный конфликт песни.
Анализируя эмотивность лирической песни, можно выявить роль каждой единицы в формировании ее целостного смыслового содержания. При этом эмотивность языковой единицы может быть её узуальным свойством или контекстуальным, может быть сформировано внутренними ресурсами языковой единицы или внешним воздействием, то есть влиянием семантики других единиц высказывания.
В лирических песнях семейно-бытовой тематики подчеркивается ценность семейных отношений и устанавливались четкие правила по созданию семьи. В песнях также отражается тяжелая доля женщины в патриархальной семье, ее незащищенность в браке. Содержательно они показывают неоднозначное отношение русского человека к браку как к хранителю традиций и семейных устоев. Таков же и эмоциональный фон русской народной лирической песни – относительно переменчивый, порой амбивалентный, но все же константно закрепленный за типовой ситуацией, что, как представляется, характерно для русского фольклора в целом.
Список литературы Языковые ресурсы эмотивности в русской лирической песне
- Городникова Н.Д. О семантической структуре лексических и фразеологических единиц, выражающих эмоции/Н. Д. Городникова//Семантическая структура слова и фразеологизма: сб. науч. тр. Рязань, 1980. С. 31-39.
- Гусев В.Е. Эстетика фольклора. Л., 1967.
- Круглов Ю. Г. Русские обрядовые песни: учеб. пособие. М., 1982.
- Лопатин Н.М., Прокунин В.П. Русские народные лирические песни. М., 1956.
- Мальцев Г.И. Традиционные формулы русской необрядовой лирики. (К изучению эстетики устнопоэтического канона). Русский фольклор. Т. XXI. Поэтика русского фольклора. Л., 1981.
- Собрание народных песен П.В. Киреевского. Записи П.И. Якушкина.Л., 1983.