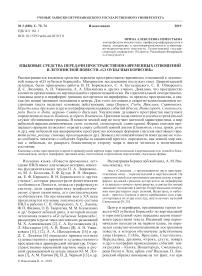Языковые средства передачи пространственно-временных отношений в летописной повести " O оубьєньи Борисовђ"
Автор: Изместьева Ирина Алексеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 3 (180), 2019 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются языковые средства передачи пространственно-временных отношений в летописной повести «Ю оубьєньи Борисові». Материалом исследования послужил текст Лаврентьевской летописи, были привлечены работы В. И. Борковского, С. А. Бугославского, С. П. Обнорского, Д. С. Лихачева, А. Н. Ужанкова, А. А. Шахматова и других ученых. Доказано, что пространство в повести организовано по вертикальной и горизонтальной осям. На горизонтальной оси противопоставлены центр и периферия: грешник исторгается на периферию, за пределы пространства, а святые (их мощи) занимают положение в центре. Для этого летописец в сюжетно-композиционном построении текста выделяет основные действующие лица (Борисъ, Глебъ, Ярославъ, Святополкъ, Передъслава, дружина и др.) и географию происходящих событий (Кыєвъ, Въшегородъ, Смоленьскъ, реки Волга и Льта, церковь Святого Василия). Указателями духовного пространства выступают определения помъгслъ Каиновъ и образъ Владычень. Цветовые коды святости (светъ) и греха (тьма) служат обозначением границы. В повести земной мир не получает цветовой характеристики, а мир небесный передан символически: свет, светлый, светозарный, златозарный. Формы глаголов прошедшего времени позволяют отразить смену событий земной жизни (Святополк съзва, приде, рече и др.), мир небесный как вневременное пространство воплощен формами глаголов настоящего времени (еста, рекуще, сияюща, просвещающа и др.). Замысел летописной повести имел целью не только сообщить читателю о событиях борьбы за княжеский престол, определить, как земной мир связан с небесным, но раскрыть божественную сторону мира и ввести читателя в молитвенное состояние.
Пространство и время в древнерусской картине мира, горизонтальная и вертикальная оси, земной и божественный мир, центр и периферия, цветовые коды, постпозиция и препозиция определений, глагольные формы
Короткий адрес: https://sciup.org/147226439
IDR: 147226439 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2019.311
Текст научной статьи Языковые средства передачи пространственно-временных отношений в летописной повести " O оубьєньи Борисовђ"
Изучение языка «Повести временных лет» (далее ПВЛ) имеет длительную историю, известны фундаментальных труды П. А. Лавровского, М. А. Колосова, Е. Ф. Будде, Н. П. Некрасова, Е. Ф. Карского, В. И. Борковского и других ученых1, которые рассмотрели фонетические особенности Повести, описали графическую систему, дали характеристику морфологическому строю памятника, его синтаксическим особенностям. На протяжении всего ХХ века продолжается изучение лексического состава ПВЛ в работах С. П. Обнорского, А. С. Львова, Ф. П. Филина, О. В. Творогова, М. М. Копыленко и др.2 Борисоглебский цикл, в который входит летописная повесть « Ѡ оубьєньи Борисовѣ»3, рассмотрен в русле текстологических разысканий М. Х. Алешковским [2], С. А. Бугославским [4], Л. Мюллером [15], А. В. Поппэ [8], А. Н. Ужан-ковым [11], [12], А. А. Шахматовым [14] и др. Д. С. Лихачев [6] определил приемы поэтики художественного времени и художественного пространства в древнерусской литературе. О пространственно-временной картине мира в русской средневековой культуре писали Ю. М. Лотман [7], А. М. Ранчин [9], В. Д. Черный [13] и др.
Рассматривая Борисоглебский цикл, А. М. Ран-чин показал, что текст «Сказания...» организован по двум простран -ственным осям – горизонтальной и вертикальной. На горизонтальной оси противопоставлены центр и периферия: великий грешник исторгается на периферию и за пределы «своего» пространства, а святые (их мощи) занимают положение в центре. В вертикальном измерении контрастируют верх (земной, Вышгород, и небесный - престол Господа и место пребывания душ страстотерпцев и их отца) и низ (ад, место вечных мучений Святополка) [9: 35].
Центр и периферия, продвижение героев повести «Ѡ оубьєньи Борисовѣ» по вертикальной и горизонтальной осям переданы всеми языковыми средствами текста. Видимый мир первоначально находится на первом плане, он определен сюжетно-композиционным построением повести, в котором обозначены действующие лица (Борисъ, Глѣбъ, Ярославъ, Свѧтополкъ, Передъслава, дружина, ѡтрокъ, слугъı, поваръ и др.) и география происходящих событий: земля русская – Къıєвъ, Въıшегородъ, Смоленьскъ, реки Волга и Льта, цр"квь стаг Васильга. П. Лавровский обратил внимание на тот факт, что при употреблении падежей для слов, обозначающих место, «находим гораздо более определительности», чем при употреблении слов, выражающих понятие времени4. Сообщение о действующих лицах сопровождается уточняющей характеристикой родства, социального положения, физического или душевного состояния, часто при помощи притяжательных местоимений: «ѡце҃ мь своимь», «ѡтрокъı своими», «рабомъ своимъ», «w брата своего», «братолюбьемь своимь», «руц^ свои», «wдрt своем'», «дшю мою», «млтву мою» и др. Личное пространство героев конкретизируется двойным определением: притяжательные местоимения соотносятся с полными прилагательными или существительными, которые подчеркивают отличительный признак: «лице твое ангслкое», «брате мои любимъш», «брата своего стар^ишаго», «брата могего Бориса»; обозначается как социально значимое: «кнѧземъ нашим̑», «дружина ѡтнѧ», «столѣ ѡтни», при этом всегда получает нравственную оценку «сборъ злобивъıхъ», «звѣрьє дивии», «Ст҃ополкъ же wканьнъlи» и стремится к небесному «Бу нашему», «свершеньє Бжь҃ є».
Определения, стоящие в постпозиции, выполняют не только функцию уточнения «ѡтрокъı Борисовъı», «корабль Глѣбовъ», «ѡтроци Гл^бови», «поваръ же ГлЪбовъ», «снъ Оугъ-рескъ», определения используются как символы-указатели духовного пространства, в котором противопоставлены «помъıслъ Каиновъ» и «ѡбразъ Влдч̑ нь», «ликъı мчн҃чьскъıе», «ликы стъ҃ ıхъ».
Автор повести прибегает к препозиции определений, чтобы не только ввести устойчивую и известную характеристику (Въıшегородьскъıѣ болѧрьцѣ), но указать границу между греховным и Божественным. Как только возникает преступный замысел, вводится оппозиция «ѡканьнъıи Стополкъ» - «бл"жнъ1и Борисъ», которая обозначает направление: Святополк движется в сторону греха и забвения, Борис и Глеб - к Богу и почи-танию5. Обозначенная граница между земным и небесным передается местом определений: препозиция «свою дшю» («безаконье нечестьемь бо свою дш҃ю ємлють») выполняет типичную номинативную функцию без эмоционально-логического выделения; постпозиция определения «дшю мою», «млтву мою», «болезнь мо га » в молитвенном плаче Бориса (« га ко не wправдитсА предъ тобою всакъ живъ1и . га ко погна врагъ дш҃ю мою ») выполняет выделительную функцию, передавая внутреннюю напряженную борьбу. Борис лишается жизненного пространства (« га ко ѡбидоша мѧ оунци тучни. и сборъ злобивъıхъ wсtде ма»), борьба внутреннего порядка выражена призывом: «Гс̑и Бе҃ мои на тѧ уповах̑ и спс҃ и ма». Определения, находясь в постпозиции, несут в себе обобщающее значение, их выразительность повышается.
Преломление земного в небесное поддержано сменой уточняющих определений в метафорические, которые позволяют создать обобщенный образ горнего мира и дать оценку злодеянию, при этом местоположение определений (в препозиции или постпозиции) уравновешенно, определения выполняют характерологическую функцию: «нбсна га жителА», «нбсны га wбители» -«в селѣхъ нбс̑нъıхъ»; «бжс̑твенами лучами» – «дх"мь божственымь»; «цЪлебны га даръ» - «водъ1 живоносны га »; «стхъ заповеди», «стаг Василь га » -«каплАми кровными стыми»; «единомъ1слена га служителѧ» – «верста єдиноѡбразна» и др. Зло обозначено символически: «ѡ злобѣ силнъıи», «стрсти злы га » - «лукаваго зми га », «супротивнаго дь га вола», «золъ члвкъ» - «чл'вкъ золъ».
Духовное восхождение оформлено с помощью пространственного предлога-послелога ради : «гр^хъ ради наших'», «спснь га ради нашего». В. В. Колесов подчеркивает, что значение причины содержится в целом сочетании [5: 653]6.
Цветовые коды святости (свѣтъ) и греха (тьма) определяют пространственные границы. «Свет» и «тьма» являются основными антиномиями Священного Писания7, в повести цветовое описание красоты и величия божественного мира обозначено символически: Бж҃ьими свѣтлостьми, «свѣтлѣи звѣздѣ», «светозарноє сл҃нце», «свѣтъ разумныи», «в м’Ьст’Ьхъ златозарнъ1хъ» 8 . Подчеркнуты черты божественного мира: безграничность («радости бесконечнѣи»), беспредельность («св^тоносная любъ1 нбсна га »), невыразимость («свѣтѣ неиздреченьнѣмь», «неиздреченьною радостью»), наполненность любовью и добром («раискую пищю», «св^тилника предобра га », «заступника тепла га »). В повести мир земной не имеет цветовой характеристики, но подчеркнута тьма, покрывающая землю. Святые братья, «тму wгонАща», защищают землю русскую. Мир небесный передан световым описанием, имеющим значение «святой, божественный». В похвале Борису и Глебу, благодаря многократному повтору «радуитасА», свето-цветовая характеристика (светозарный, светоносный, свет разумный, златозарный, светозарное солнце) функционально насыщена: «всегда тму ѿгонѧща», «стрс̑ти злы га ицЪлАюща», «бЪсы wгонАща», «иц^ленье подаєта». Соотнося поступки героев с событиями Ветхого и Нового заветов, автор повести подводит читателя к постижению мира духовного. «Сравнение в древнерусской литературе подсказывается не мироощущением, а мировоззрением» [6: 153]. В семантической структуре текста грех обозначен как беззаконье, «помъıслъ Каиновъ» и ограничен тьмой: «Сто҃ полкъ же приде ночью Въıшегороду», «послании же придоша на Льто ночью».
Пространственно-временная картина повести динамична, лексический повтор позволяет не только сформировать устойчивый облик действующих лиц и передать развитие событий («гако братьга ихъ б^ша с Борисомь. и Борису же възъвратившюсѧ съ вои»; «рѣша же ѥму дружина ѡтнѧ. се дружина оу тобе ѡтьнѧ»; «се любимъ Борисомь ... ^гоже любллше повели-ку Борисъ» и др.), но обеспечить взаимосвязь между внешним миром и внутренним, земным и небесным: «приимъ стрс̑ть грѣхъ ради наших . тако и мене сподоби пригати стрсть», показать, как формируется образ святых и происходит движение к небесному: «Борисъ . вѣнець приємъ ѿ Хс̑а Ба҃ съ праведнъıми. причетъсѧ съ пр҃ркъı и апс̑лъı. с ликъı мчн҃чьскъıми водварж са»; (Глеб) «и прига в^нець вшедъ въ ибсныга wбители».
Динамичный характер событий подчеркнут текстообразующей усилительной частицей же , которая события повести соотносит друг с другом (Стополкъ же - они же , Борисъ же - дружина же и т. п.), наречиями с временными и пространственными значениями, например: к Борису «послании придоша на Льто ночью . и подъсту-пиша ближе», убийство свершается не сразу. Борис успевает пропеть заутреню, Псалтырь и Канон, помолившись, «возлеже на wдрt своем'», после нападения он еще жив, и только по дороге один из варягов пронзает сердце Бориса. Весть о смерти брата и грозящей опасности настигает «Глѣба на Смѧдинѣ в насадѣ». Глебу остается время только на короткую молитву, больше похожую на плач. Послании «внезапу придоша», «абье . wбнажиша wружье», они должны были «вборз^ зарезати Гл^ба». Пространственно-временные координаты гибели братьев оказываются различными.
Временной план повести определен глагольными формами повествовательного аориста, которые имеют различные оттенки действия: сначала передают череду свершившихся событий и замысел преступления (Свѧтополкъ же сѣде, съзва, приде, призва, реч̑), затем убийство и его последствия (послании же придоша, подъ-ступиша, слъ1шаша, нападоша, прободоша, из-биша, усѣкнуша, ѡбрѣтоша, повезоша). В тексте отражено не только согласование по форме (например, Свѧтополкъ реч̑ – послании нападоша), семантически глагольные формы единственного и множественного числа аориста передают результат совместного законченного действия: Сватополкъ и послании w Стополка связаны злодеянием.
По отношению к Борису и Глебу семантически формы ед. и мн. числа аориста подчеркивают оппозицию: по одну сторону находятся братья, по другую – воины, дружина, посланные, окаянные. Глаголы чувственного действия характеризуют душевное состояние братьев (Борисъ плакасѧ, помолисѧ, Глѣбъ възпи плачасѧ, радовашесѧ), которое дополнительно описано формами, отражающими различную степень вероятности или возможности действия, например, размышления о необходимости сделать выбор: «се ми буди въ "№ца м^сто» (Борис), «бъ1хъ . вид^лъ лице твое ангслкое . оумерлъ бых'», «быхъ пригалъ» (Глеб). Принятие братьями решения передано составным глагольным сказуемым (аористом в сочетании с инфинитивом), появляется дополнительное модальное значение перехода к новому действию, основное смысловое значение передано инфинитивом: нача пѣти (заоутреню, псл҃тырю, канунъ), сподоби пригати (Борис), нача молитисж (Глеб). Так, по отношению к братьям использованы формы аориста единственного числа внутреннего действия, что позволило расширить пространственно-временные рамки происходящих событий, передать душевное состояние братьев. Глаголы в форме множественного числа отражают физические действия посланных по отношению к братьям (нападоша, прободоша, повезоша, по-ложиша и др.). Возникает разнонаправленность сменяющих друг друга событий.
Если Святополк и посланные связаны преступлением, то Бориса и Глеба объединили смирение и любовь, как начало пути к святости. Единение братьев передано формой анафорического двойственного числа наст. вр. «в идеально “вечном”» [5: 324] значении (єста заступника Русьстѣи земли, радуитасѧ, молитасѧ, покорита, сподобита, подаета и др.), усилено действительным причастием наст. вр. (ѿгонѧща, молѧщасѧ, си га юща, иц^лжюща, просв^щающа, напа га юща). Констатация фактов в аористе сменяется длительным настоящим временем, которое получает в похвале братьям вневременное символическое значение вечности.
Благодаря восхождению к светоносной небесной любви люди русские получили возможность иметь «ц^лебнъ1 га даръ1»: «иц^ле|нье . хромъш" ходити . слѣпъıмъ прозрѣньє . болѧщим̑ цѣлбъı . ѡкованъıм̑ разрѣшеньє . темницам̑ ѿверзеньє . печалным оутЬха . напастнъш" избавленье». Небесное и земное сходятся в молитвенном служении: Борис и Глеб, как заступники земли Русской и светильники сияющие, молятся «къ Влд̑цѣ . w своихъ людех'». Автор повести призывает и наставляет: «тѣмже и мъı должни єсмъı хвалити достоино стрс̑пца Хс̑ва . молѧщесѧ прилѣжно к нима».
Замысел летописной повести имел целью не только сообщить читателю о событиях борьбы за княжеский престол, но показать божественную сторону мира, ввести в молитвенное состояние. Д. С. Лихачев подчеркивал, что в Древней Руси чтение приближалось к исполнению обряда, часто непосредственно переходило в обряд, древнерусский читатель «участвует» в чтении, как участвует молящийся в богослужении [6: 93, 252].
Таким образом, пространственно-временная картина летописной повести организована различными грамматическими и лексическими средствами языка, которые позволяют показать земной мир, ограниченный географическими границами, временными рамками, где события имеют начало, развитие и завершение; где про- исходит нравственный выбор героев; показать божественный мир, открывающийся взору читателя благодаря комментариям летописца, ссылкам на Священное Писание, молитвенному плачу и похвале страстотерпцам.
Список литературы Языковые средства передачи пространственно-временных отношений в летописной повести " O оубьєньи Борисовђ"
- Аверинцев С. С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры // Поэтика ранневизантийской литературы. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 404-425.
- Алешковский М. Х. Русские Глебоборисовские энколпионы 1072-1150 годов // Древнерусское искусство: художественная культура домонгольской Руси. М.: Наука, 1972. С. 104-125.
- Биленкин В. «Чтение» преп. Нестора как памятник «глебоборисовского» культа // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 47. СПб., 1993. С. 54-64.
- Бугославский С. А. Текстология Древней Руси. Т. 2. Древнерусские литературные произведения о Борисе и Глебе. М.: Языки славянской культуры, 2007. 672 с.
- Колесов В. В. История русского языка: Учеб. пособие. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Академия, 2005. 672 с.
- Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. М.: Наука, 1979. 360 с.
- Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семиосфера - история. М.: Языки русской культуры, 1996. 464 с.
- Поппэ А. В. Земная гибель и небесное торжество Бориса и Глеба // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 54. СПб., 2003. С. 304-336.
- Ранчин А. М. Вертоград Златословный: древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М.: Новое лит. обозрение, 2007. 576 с.
- Творогов О. В. К вопросу об употреблении старославянизмов в «Повести временных лет» // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1963. Т. 19. С. 208-214.
- Ужанков А. Н. Святые страстотерпцы Борис и Глеб: к истории канонизации и написания житий // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2000. № 2. С. 28-50.
- Ужанков А. Н. Святые страстотерпцы Борис и Глеб: к истории канонизации и написания житий (Окончание) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2001. № 1 (3). С. 37-49.
- Черный В. Д. Зримые образы слова (истоки, функции и выразительные возможности древнерусских изображений) // Герменевтика древнерусской литературы. Вып. 11 / Общество исследователей Древней Руси; Отв. ред. М. Ю. Люстров. М.: Языки славянской культуры: Прогресс-традиция, 2004. 912 с.
- Шахматов А. А. Разыскания о русских летописях. М.: Академический проспект; Жуковский: Кучково поле, 2001. 880 с.
- Gröber B., Müller L. Vollständiges Wörterverzeichnis zur Nestorchronik. München, 1977-1979. Bd. 1. Vol. 1-2.