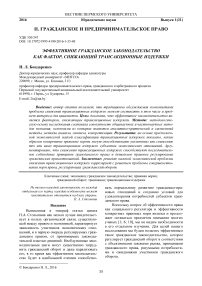Эффективное гражданское законодательство как фактор, снижающий трансакционные издержки
Автор: Бондаренко Н.Л.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Гражданское и предпринимательское право
Статья в выпуске: 1 (31), 2016 года.
Бесплатный доступ
Введение: автор статьи полагает, что традиционно обсуждаемая экономистами проблема снижения трансакционных издержек может составлять в том числе и предмет интереса для цивилистов. Цель: доказать, что эффективное законодательство является фактором, снижающим трансакционные издержки. Методы: методологическую основу исследования составила совокупность общенаучных и частнонаучных методов познания, основными из которых являются аналитико-критический и системный методы, методы анализа, синтеза, конкретизации. Результаты: на основе предложенной экономической наукой классификации трансакционных издержек показано, каким образом конкретные правовые нормы могут способствовать увеличению или снижению тех или иных трансакционных издержек субъектов экономических отношений. Аргументировано, что снижению трансакционных издержек способствуют последовательное соблюдение принципов гражданского права и детальное правовое регулирование гражданских правоотношений. Заключение: решение важной экономической проблемы снижения трансакционных издержек коррелирует с решением проблемы совершенствования норм права, регулирующих гражданский оборот.
Экономика, гражданское законодательство, правовая норма, гражданский оборот, трансакции, трансакционные издержки
Короткий адрес: https://sciup.org/147202540
IDR: 147202540 | УДК: 330/347 | DOI: 10.17072/1995-4190-2016-1-35-40
Текст научной статьи Эффективное гражданское законодательство как фактор, снижающий трансакционные издержки
Вынесенная в эпиграф статьи цитата П.А. Столыпина как нельзя лучше свидетельствует в пользу органической связи, существующей между правом и экономикой, характеризует зависимость участников экономических отношений, и в первую очередь регулируемых гражданским правом, от принимаемых законодательной властью решений. Необдуманные законодательные шаги могут существенно затруднить гражданский оборот и даже парализовать его, в то время как эффективное законодательство будет в наибольшей степени способство- вать нормальному развитию гражданско-правовых отношений и созданию условий для удовлетворения потребностей субъектов гражданского права.
Поскольку вопрос об эффективности права как социального регулятора и эффективности конкретных правовых норм являлся и продолжает оставаться предметом внимания многих ученых [1; 6; 10], мы не видим необходимости в его отдельном изучении. Для целей нашего исследования мы будем полагать эффективным такое гражданское законодательство, которое регулирует гражданский оборот в соответствии с объективными законами рынка, принципами гражданского права, разумными потребностями и ожиданиями участников гражданского оборота.
Основное содержание
Термин «трансакция», введенный в оборот представителями экономической науки, сегодня приобрел междисциплинарный характер, им оперируют политики, психологи, юристы, специалисты в области информационных технологий. Что касается «трансакционных издержек» и проблемы их снижения, то они составляют предмет интереса главным образом экономистов. Однако, на наш взгляд, цивилистам также не следует игнорировать эту проблему, поскольку она коррелирует с решением важной юридической задачи – совершенствования норм права, регулирующих гражданский оборот.
В переводе с английского «трансакция» (transaction) означает «взаимодействие». В процессе этого взаимодействия в условиях рыночной системы, частной собственности и разделения труда возникают издержки, именуемые трансакционными. Понятие трансакционных издержек, как издержек функционирования рынка, было предложено Р. Коузом, полагавшим, что такого рода издержки возникают в процессе сбора и обработки информации, проведения переговоров и принятия решения, контроля и юридической защиты выполнения контракта [9]. К. Эрроу назвал трансакционные издержки «издержками по поддержанию экономических систем на ходу», весьма точно сравнив их с эффектом трения в физике [7].
Субъекты экономической деятельности затрачивают значительные ресурсы и усилия для поиска информации о качестве товаров, работ и услуг, надежности предполагаемых партнеров, на ведение переговоров, заключение контрактов и принуждение к их надлежащему исполнению. Таким образом, практически все экономические трансакции сопровождаются юридическим оформлением, создают этот самый «эффект трения», который и придает проблеме снижения трансакционных издержек междисциплинарный характер. Экономисты первыми проявили интерес к проблеме определения экономической эффективности правовых норм, с тем чтобы выработать рекомендации по их дальнейшему использованию. Р. Коуз утверждал, что всякое правило, закрепленное в нормативном правовом акте или являющееся правилом делового оборота, надлежит оценивать с точки зрения механизма, призванного решать проблему минимизации трансакционных издержек. Согласно предложенному Р. Познером принципу минимизации таких издержек, любые законодательные установления должны соответствовать критерию экономической эффективности. Юридические правила должны подражать рынку, – полагал ученый, – способствовать установлению та- кого распределения прав собственности, который достигал бы рынок при отсутствии трансакционных издержек, к которым экономические агенты приходили бы сами, не препятствуй им в этом положительные трансакционные издержки. Законодателю при разработке и установлении правовых норм надлежит формулировать правовую норму таким образом, чтобы субъектам гражданского оборота было выгоднее ее соблюдать, нежели нарушать [12].
Для подтверждения справедливости выдвинутого экономистами тезиса проведем некоторый анализ гражданского законодательства Республики Беларусь. Попытаемся проиллюстрировать, каким образом правовые нормы могут как способствовать снижению трансакционных издержек, так и увеличивать их. Для целей анализа считаем полезным использовать одну из множества представленных в экономической науке классификаций трансакционных издержек, в частности классификацию Т. Эггертс-сона, состоящую из шести основных групп: издержки поиска информации; издержки ведения переговоров; издержки заключения контрактов; издержки мониторинга; издержки на принуждение; издержки на защиту прав собственности (цит. по [2]).
Издержки поиска информации включают поиск потенциальных контрагентов, наиболее выгодных условий контракта, цены. Посредством реализации обязанности ряда юридических лиц раскрывать информацию и публиковать отчеты об использовании своего имущества снижаются издержки на поиск информации о потенциальных партнерах (ст. 97, 118 ГК) [8]. Снижению трансакционных издержек на поиск информации потребителями способствует обращенное к продавцам требование о предоставлении покупателям необходимой и достоверной информации о предлагаемом к продаже товаре и способам ее предоставления (п. 1 ст. 465 ГК); обязанность подрядчика до заключения договора бытового подряда предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и особенностях, о цене и форме оплаты, а также других относящихся к договору и соответствующей работе сведений (п. 1 ст. 687 ГК); обязанность страхователя при заключении договора страхования сообщить страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику (п. 1 ст. 834 ГК). Снижению издержек поиска информации спо- собствует также законодательно закрепленная обязанность органов по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним предоставлять любому лицу необходимую информацию о существующих на момент выдачи информации правах и ограничениях (обременениях) прав на конкретный объект недвижимого имущества (п. 4 ст. 131 ГК). Фактором, существенно повышающим издержки на поиск информации, является избыточность гражданского законодательства, наличие в нем пробелов и коллизий, значительное количество бланкетных норм, отсылающих субъектов гражданских правоотношений к «действующему законодательству», в котором без помощи специалиста разобраться зачастую невозможно.
Трансакционные издержки на ведение переговоров и издержки заключения контрактов снижаются посредством разработки стандартных условий сделок в договорах присоединения (ст. 398 ГК), принятия Правительством Республики Беларусь типовых договоров и положений (ст. 396 ГК). В то же время отсутствие в действующем белорусском законодательстве положений об ответственности за недобросовестное ведение переговоров способствует увеличению издержек. Способствовать снижению трансакционных издержек заключения контракта призвана и правовая конструкция предварительного договора, однако в существующем виде она недостаточно эффективна. В соответствии с белорусским законодательством, предварительный договор предопределяет содержание основного договора, поэтому он должен содержать все существенные условия основного договора (п. 3 ст. 399 ГК). Однако в момент заключения договора стороны не могут с уверенностью определить все существенные условия основного договора, поэтому предъявляемое российским законодателем требование о том, что наряду с условием о предмете предварительный договор должен содержать те условия основного договора, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение при заключении предварительного договора, нам представляется более обоснованным (п. 3 ст. 429 ГК РФ) [5].
Детальное правовое регулирование гражданских правоотношений снижает издержки заключения контрактов, а наличие в гражданском законодательстве противоречий и пробелов способствует их увеличению. Так, гражданским законодательством Республики Беларусь до сих пор не урегулированы прочно укрепившиеся в хозяйственной практике агентский договор и договор товарного кредита, поэтому при заключении таких договоров стороны реализуют право на заключение смешанного договора, предоставленное им ст. 391 ГК («Свобода договора»). Однако п. 2 вышеназванной статьи не предоставляет сторонам договора право заключения непоименованных договоров, что вызывает проблемы в правоприменении при заключении такого востребованного субъектами гражданского оборота, но не урегулированного законодательно договора аутсорсинга. Упоминание об аутсорсинге обнаруживается лишь в банковском законодательстве, согласно которому под аутсорсингом понимается привлечение третьей стороны – аффилированной с группой или неафилированной сторонней организации – для выполнения отдельных видов работ (деятельности) от имени банка (п. 54) [11].
На этапе, когда сделка сторонами уже заключена, возникают издержки мониторинга и предупреждения оппортунизма, которые связаны с контролем исполнения договора и необходимостью обеспечения его надлежащего исполнения. Четкая регламентация прав и обязанностей участников сделки способствует снижению трансакционных издержек мониторинга. Несколько примеров таких норм: кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования (ст. 356 ГК); производитель сельскохозяйственной продукции обязан сообщить заготовителю о невозможности поставки сельскохозяйственной продукции вследствие обстоятельств, за которые он не отвечает (ст. 509 ГК); экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных недостатках полученной информации, а в случае неполноты информации запросить у клиента необходимые дополнительные данные (п. 2 ст. 597 ГК); подрядчик, обнаруживший в ходе строительства неучтенные в проектно-сметной документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику (п. 3 ст. 698 ГК); страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления страховщиком перешедшего к нему права требования (п. 3 ст. 855 ГК) и др.
Так называемые издержки оппортунистического поведения (ложь, обман, неисполнение договора) снижаются закреплением в гражданском законодательстве: принципов добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений и недопустимости произвольного вмешательства в частные дела (ст. 2 ГК);
институтов недействительности сделок и гражданско-правовой ответственности, норм о недопустимости злоупотребления правом (п. 3 ст. 9 ГК) и недобросовестной конкуренции (гл. 68 ГК).
Однако такого рода издержки могут явиться не только результатом действия стороны по договору, но и возникнуть вследствие вмешательства государства в частноправовую сферу. Так, в соответствии с п. 2 ст. 392 ГК, «если после заключения и до прекращения действия договора принят акт законодательства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора должны быть приведены в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством». Данная норма, закрепляющая приоритет законодательства над договором, причем как действующего в момент заключения договора, так и вводимого в действие после его заключения, противоречит гражданско-правовым принципам свободы договора и недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Кроме того, она не соответствует разумным ожиданиям участников гражданского оборота в стабильности и неизменности заранее установленных «правил игры», а значит, имеет ярко выраженный антирыночный характер.
Издержки участников гражданского оборота на принуждение возникают в тех случаях, когда обязательства не исполняются либо исполняются ненадлежащим образом. Гражданским законодательством предусмотрены специальные меры, в значительной мере стимулирующие должника к надлежащему поведению, именуемые способами обеспечения исполнения обязательств (гл. 23 ГК), а также способами защиты гражданских прав (ст. 11 ГК) – в случае если обязательство было нарушено. Недостатки в правовом регулировании или законодательные пробелы, соответственно нивелируют возможности указанных институтов снижать трансакционные издержки. Особенно это заметно на примере такого способа обеспечения исполнения обязательств, как неустойка. В силу ст. 314 ГК, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Конкретных критериев для снижения подлежащей взысканию неустойки белорусский законодатель не устанавливает. Как следствие, практика применения данной нормы не отличается единообразием: в одних случаях ходатайство стороны об уменьшении неустойки судом удовлетворяется, в других – нет, поскольку снижение неустойки является не обязанностью, а пра- вом суда. Существенно разнится и размер процентов, на который суд снижает неустойку в отношении различных субъектов [3].
Однако самыми значительными трансакционными издержками экономисты полагают издержки спецификации и защиты прав собственности. Спецификация прав собственности предполагает точное определение субъекта и объекта права собственности, оснований его возникновения, точное определение содержания прав собственности. Таким образом, трансакционные издержки субъектов на защиту прав собственности возникают в результате ненадежной защиты прав собственности, неопределенности в вопросе об основаниях прекращения права собственности, включают затраты времени и ресурсов, необходимых для восстановления нарушенных прав, а также расходов на содержание институтов (государственных, судебных и др.), обеспечивающих защиту нарушенных прав. Неполнота спецификации прав собственности трактуется экономистами как размывание (attenuation) прав собственности. С точки зрения права мы бы охарактеризовали эту ситуацию как отступление от требований принципа неприкосновенности собственности.
Так, гражданское законодательство Республики Беларусь «грешит» многочисленными отступлениями от конституционной нормы о допустимости лишения собственности только на основании закона. В ст. 244 ГК закреплено: «В случаях, предусмотренных законодательными актами, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (конфискация)». Вместо термина «закон» белорусский законодатель использует в ГК более широкий по содержанию термин «законодательные акты», к числу которых, наряду с законами, относятся также декреты и указы Президента Республики Беларусь (ст. 3 ГК). Из 18 оснований прекращения права частной собственности на земельные участки, закрепленных в Кодексе о земле Республики Беларусь, 11 – принудительного характера [8]. Кроме того, данный обширный перечень не является исчерпывающим, поскольку законодательными актами (а не законом, как того требует ст. 44 Конституции) могут быть предусмотрены и иные случаи прекращения права частной собственности на земельный участок (ст. 60).
Р. Познером было сформулировано важное для юристов «правило собственности»: право собственности защищено тогда, когда его можно получить от правообладателя только в результате добровольной сделки по взаимосогласованной цене. Такая форма защиты дает наименьший простор для государственного вмешательства. Сегодня, когда в белорусском обществе все громче звучат призывы предоставить государству право шире использовать экспроприацию для решения стоящих перед ним задач, идеи Р. Познера приобретают особое значение.
Заключение
Обозначенная в рамках настоящей статьи тема является весьма обширной и многоаспектной, поэтому мы исследовали ее в большей степени в качестве постановки вопроса и лишь незначительно с точки зрения возможных путей решения. Мы аргументировали тезис о том, что проблема снижения трансакционных издержек является сегодня точкой пересечения интересов экономистов и цивилистов и может быть решена ими только на основе постоянного контакта и взаимодействия, а значит, корреляция правовой и экономической наук необходима. Современная юриспруденция должна выйти за рамки исследования только лишь юридических проблем, поскольку, как говорил Ж. Руссо, мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их пригодности для данного общества.
Список литературы Эффективное гражданское законодательство как фактор, снижающий трансакционные издержки
- Алексеев С.С. Проблемы теории права: курс лекций. Свердловск, 1972. Т. 1. 396 с.
- Асаул Н.А. Теория и методология институциональных взаимодействий субъектов инвестиционно-строительного комплекса. СПб.: Гуманистика, 2004. 280 с.
- Бондаренко Н.Л. Снижение неустойки судом: понятие и значение//Журнал рос. права. 2013. № 11. С. 78-84.
- Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. URL: http://www.pravo.by/(дата обращения: 07.01.2016).
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: принята Гос. Думой 21 окт. 1994 г. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 31.01.2016).
- Жинкин С.А. Эффективность права: антропологическое и ценностное измерение: автореф. дис.. д-ра юрид. наук. Краснодар, 2009. 41 с.
- Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности (методология, основные понятия, круг проблем)/ИМЭМО. М., 1990. 90 с.
- Кодекс о земле Республики Беларусь: принят Палатой представителей 17 июня 2008 г.; одоб. Советом Респ. 28 июня 2008 г. URL: http://www.pravo.by/(дата обращения: 07.01.2016).
- Коуз Р. Фирма, рынок и право: сб. ст. М.: Дело, 1993. 192 с.
- Лустова О.С. Понятие, критерии и условия эффективности правовых норм//Вестник Челябинского государственного университета. 2004. № 1. С. 22-29.
- О совершенствовании управления операционным риском в банках: письмо Нац. банка Респ. Беларусь от 20 июля 2012 г. № 2314/40. URL: http://www.pravo.by/(дата обращения: 07.01.2016).
- Познер Р.А. Экономический анализ права. СПб.: Экон. школа, 2004. Т. 1. 522 с.