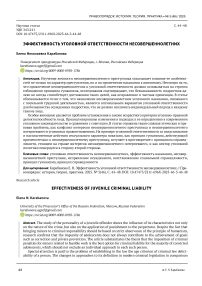Эффективность уголовной ответственности несовершеннолетних
Автор: Карабанова Е.Н.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 3 (46), 2025 года.
Бесплатный доступ
Изучение личности несовершеннолетнего преступника показывает влияние ее особенностей не только на характер преступления, но и на применение наказания к виновному. Несмотря на то, что привлечение несовершеннолетних к уголовной ответственности должно основываться на строгом соблюдении принципа гуманизма, исследования подтверждают, что безнаказанность подростков далеко не всегда способствует достижению таких целей, как исправление и частная превенция. В статье обосновывается тезис о том, что назначение несовершеннолетним уголовного наказания, связанного с посильной трудовой деятельностью, является оптимальным вариантом уголовной ответственности для большинства осужденных подростков, что не должно исключать индивидуальный подход к каждому такому лицу. Особое внимание уделяется проблеме установления в законе возрастного критерия уголовно-правовой деликтоспособности лица. Проанализированы изменения в подходах к ее определению в современном уголовном законодательстве в сравнении с советским. В статье отражена такая сложная этическая и правовая проблема, как конфликт интересов несовершеннолетнего преступника и несовершеннолетнего потерпевшего в уголовных правоотношениях. На примере уголовной ответственности за изнасилование и насильственные действия сексуального характера показано, как принцип гуманизма, действующий применительно к несовершеннолетнему преступнику, вступает в противоречие с принципом справедливости, стоящем на страже интересов несовершеннолетнего потерпевшего, и как вектор уголовной политики повернулся в сторону второй стороны.
Уголовная ответственность несовершеннолетних, эффективность наказания, несовершеннолетний преступник, исправление осужденного, восстановление социальной справедливости, принцип гуманизма, принцип справедливости
Короткий адрес: https://sciup.org/14134012
IDR: 14134012 | УДК: 343.241 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-46-3-44-48
Текст научной статьи Эффективность уголовной ответственности несовершеннолетних
Сегодня превалирующий дискурс — это то, что ювенальную уголовную политику необходимо гуманизировать. Возникает закономерный вывод: она недостаточно гуманна. Но статистика упрямо свидетельствует об обратном: за последние 5 лет на 10 осужденных, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, приходилось в среднем 6 освобожденных от уголовной ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам 1. То есть каждый третий, а иногда и второй несовершеннолетний освобожден судом от уголовной ответственности. Это не считая тех подростков, которые освобождены на этапе предварительного расследования.
Гуманизм и его разумные пределы
Обратимся к вопросу назначения уголовного наказания. Начнем с того, что 12 % осужденных несовершеннолетних от него освобождены судом. Из тех, кому наказание назначено, не многим менее половины оно назначено условно 2. Это прямое проявление гуманизма. Получается, что с учетом числа лиц, освобожденных от уголовной ответственности и от наказания, реально отбывает наказание не более одной трети несовершеннолетних, совершивших преступление. Это обстоятельство говорит о том, что в современных реалиях уголовному наказанию фактически отводится второстепенная роль в механизме реализации уголовной ответственности несовершеннолетних, оно уступает место иным мерам уголовно-правового воздействия.
Такая расстановка акцентов представляется мне не совсем верной. Почему? В общественном сознании связь преступления и наказания выступает традиционной парадигмой общественных отношений, разрыв которой снижает эффективность уголовно-правового регулирования. Известны случаи, когда, например, подростки, ведомые чувством безнаказанности, не намерены были прекращать свою преступную деятельность, несмотря на принимаемые государством меры воспитательного воздействия и постановку на профилактический учет. Уголовное наказание должно применяться к несовершеннолетним гораздо шире, чем оно применяется сейчас. Речь идет не об ужесточении наказания, а о повышении уровня его неотвратимости, что гораздо важнее для целей исправления подростка, преступившего закон.
Влияние наказания на исправление осужденного Не так давно Университет прокуратуры Российской Федерации проводил фундаментальное научное исследование личности несовершеннолетнего преступника. Оно показало, что при привлечении подростков к уголовной ответственности наиболее эффективным с точки зрения их исправления выступает реальное отбывание наказания, не связанного с лишением свободы. Затем по убыванию эффективности следуют условное осуждение к лишению свободы. На третьем месте по эффективности стоит реальное отбывание лишения свободы. Замыкает этот своеобразный рейтинг привлечение к уголовной ответственности с освобождением от наказания и применением принудительных мер воспитательного воздействия или помещением в специальное учреждение закрытого типа. В основу шкалирования был положен факт совершения подростком нового преступления [4, с. 82–96].
Исходя из этого, перспективным с точки зрения эффективности представляется реальное отбывание наказания, не связанного с лишением свободы. На сегодняшний день в сфере ювенального судопроизводства «лидером» среди таких наказаний выступают обязательные работы. И это правильно выбранное направление, поскольку общественно полезный труд – первейшее средство исправления.
Весьма эффективным с этих позиций можно было бы признать назначение исправительных работ, поскольку помимо трудовой составляющей здесь есть возможность честного заработка, а также лишение части заработанных денег, удерживаемых в доход государства, что обеспечивает необходимый карательный потенциал этого вида наказания. Однако к несовершеннолетним осужденным исправительные работы применяются очень редко — всего в 1 % случаев. Дело в том, что этот вид наказания назначается, как правило, осужденным, имеющим основное место работы, что большая редкость среди несовершеннолетних. Назначение исправительных работ лицу, не имеющему основного места работы, существенно осложняется, во-первых, невостребованностью детского труда, во-вторых, тем, что срок наказания достаточно длительный (несколько месяцев), и его исполнение будет препятствовать получению несовершеннолетним образования.
Разумеется, для тех подростков, которые уже имеют основное общее образование и не посещают никакое образовательное учреждение, такого рода «принудительное трудоустройство» является эффективной мерой уголовно-правового воздействия. Однако государством должно поощряться получение образования, это тоже основное средство исправления. Поэтому целесообразно на законодательном уровне урегулировать вопрос получения образования несовершеннолетними, отбывающими исправительные работы. Необходимо установить гибкую систему мер, позволяющих таким осужденным осваивать образовательную программу, в том числе предоставление академического отпуска на период отбывания наказания.
Достаточно спорной является оценка эффективности взыскания штрафа. В большинстве случаев его выплачивают родители, поскольку осужденный подросток не работает. Достигает ли такое наказание своей цели? Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, какие нравственные ценности и материальные возможности имеются в данной конкретной семье. Для нуждающейся многодетной семьи сумма в несколько десятков тысяч может оказаться неподъемной, и это повергнет подростка в стыд перед близкими. В случае с богатой семьей штраф, сопоставимый с суммой «карманных» денег или со стоимостью новых кроссовок, вряд ли окажет должное исправительное воздействие. Данный вид наказания назначается каждому десятому осужденному подростку и объективной необходимости в расширении его применения я не вижу.
Наконец, несколько слов о лишении свободы. Его отбывают всего 13 % осужденных подростков. Не много. Но мы всегда говорим о лишении свободы едва ли не шепотом, если речь идет о несовершеннолетних. В профессиональном юридическом сообществе сложилось резко негативное отношение к назначению этого наказания подросткам, говорят о необходимости снижения его показателей. Ведь в колонии нет родителей, в колонии криминал, субкультура. Мы потеряем его там. Я выскажу не самую, наверное, популярную мысль… Если ребенок совершил разбой… нет не украл, а цинично избил человека ради наживы, мы уже его потеряли. А в каких условиях он жил и воспитывался все это время? Они были лучше, чем в колонии? Разве с ним были рядом родители? Разве он уже не погряз в криминале (начал с кражи, был освобождён от уголовной ответственности или осужден условно и пошел по нарастающей)? Да он уже познал все тонкости криминальной субкультуры в семье, на улице, в соцсетях.
Раньше демонизация воспитательных колоний была небеспочвенной, но уже много лет этот нарратив существует по инерции. Нельзя не отметить, что в воспитательных колониях сейчас созданы очень хорошие условия с точки зрения материально-бытового обеспечения, питания, медицинского обслуживания, с точки зрения получения осужденными образования и возможности общения с близкими. Это и есть криминогенная среда? Сомневаюсь. Больше похоже на возвращение к нормальной жизни. Дети из неблагополучных семей до помещения в воспитательную колонию не видели ничего подобного.
Гуманизм VS справедливость
Основу эффективного наказания составляет, прежде всего, его разумное уголовно-правовое регулирование. Наука ищет подходы к совершенствованию механизма реализации уголовного наказания в механизме уголовно-правового регулирования посредством принципов уголовного права и уголовного закона [1]. Перекосы на законодательном уровне как в сторону необоснованного смягчения, так и в сторону чрезмерной жесткости уголовной ответственности снижают его эффективность. В обоих случаях будет иметь место нарушение принципа справедливости и цель наказания — восстановление социальной справедливости — станет априори не достижима.
Безусловно, законодатель, руководствуясь принципом гуманизма, принял все меры к смягчению уголовной ответственности несовершеннолетних не только в сравнении со взрослыми преступниками, но даже относительно уровня ответственности этой категории лиц в советском уголовном праве . Так, в отличие от современного уголовного закона, по УК РСФСР 1960 г. ответственность за привилегированные виды убийства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (при превышении пределов необходимой обороны, в состоянии аффекта), причинение смерти по неосторожности, мошенничество, хищение предметов, имеющих особую ценность, наступала не с 16, а с 14 лет (ст. 10). Не делал скидок советский законодатель и на возрастную невменяемость, которая сейчас рассматривается как обстоятельство, исключающее уголовную ответственность подростка (ч. 3 ст. 20 УК РФ). Само понятие «отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством» впервые появилось в правовом поле с принятием УК РФ в 1996 г.
Возможно, в 1996 г. законодатель, устанавливая возрастной критерий уголовно-правовой деликтоспо-собности, был в тренде и учитывал широко обсуждаемый на рубеже веков феномен «инфантилизации» молодежи [2, с. 6]. Но налицо и гуманистические начала такого подхода, поскольку институт уголовной ответственности несовершеннолетних в целом был смягчен в сравнении с советским периодом. Однако есть мнение, что, разрабатывая УК РФ, «законодатель учел современные социально-психологические характеристики несовершеннолетних: акселерацию не только в физической, но и в интеллектуально-волевой сфере, более широкое участие несовершеннолетних во всех видах деятельности, как социально-позитивной, так и негативной, в частности в преступной групповой деятельности, распад семьи и увеличение в связи с этим числа беспризорных и безнадзорных детей, которые пополняют ряды преступников» [3, с. 32]. Полагаем, что этот вывод несколько спорный, поскольку повышение возрастного критерия уголовной деликтоспособности за ряд преступлений свидетельствует как раз об обратном.
Вместе с тем как в советский период, так и сейчас при установлении возраста наступления уголовной ответственности существует проблема баланса интересов несовершеннолетнего преступника и несовершеннолетнего потерпевшего. В ряде норм законодатель решил ее, предусмотрев в составах преступлений, совершенных в отношении детей, специальный признак субъекта — достижение лицом 18-летнего возраста (ст. 134, 135, 150 УК РФ и др.). Но часто в подобных составах субъект преступления общий, достигший возраста 14 или 16 лет. И вот здесь мы сталкиваемся с конфликтом интересов двух несовершеннолетних — преступника и потерпевшего.
Например, субъектом изнасилования и насильственных действий сексуального характера выступает лицо, достигшее 14-летнего возраста, независимо от возраста потерпевшей (потерпевшего) 1, который непосредственно влияет на строгость уголовной ответственности за указанные преступления. При этом уголовный закон выделил три категории потерпевших: старше 18 лет (наказание от 3 до 6 лет лишения свободы); в возрасте от 14 до 17 лет (наказание от 8 до 15 лет лишения свободы); не достигшие 14 лет (наказание от 12 до 20 лет лишения свободы). На первый взгляд все логично и справедливо, но вот сексуальная специфика этих преступлений заставляет обратить внимание на то обстоятельство, что вероятность их совершения подростком гораздо выше, если речь идет о несовершеннолетних и даже малолетних потерпевших. Этот вывод не просто напрашивается со всей житейской очевидностью, но и подтверждается статистическими данными по числу лиц, осужденных за изнасилование. Так, доля несовершеннолетних преступников, совершивших изнасилование взрослой женщины, составляет всего 28 % от числа всех несовершеннолетних насильников, а совершивших изнасилование несовершеннолетней и малолетней потерпевшей — 72 %. Если взять аналогичные показатели по категории несовершеннолетних, совершивших изнасилование в возрасте 14–15 лет, то это соотношение будет еще более диспропорциональным и составит 24 % и 76 % соответственно. И хотя цифры красноречиво говорят сами за себя, приведем для сравнения аналогичное соотношение числа лиц всех возрастов, совершивших изнасилование:
в отношении взрослой женщины данное преступление совершили 61 %, а в отношении несовершеннолетней или малолетней потерпевшей — 39 % осужденных 2.
Статистика свидетельствует о том, что в силу сексуального характера преступлений, предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ, несовершеннолетние преступники в подавляющем большинстве случаев осуждаются за преступление с особо квалифицированным составом. Ситуация осложняется еще и тем, что в 2012 г. статья 131 УК РФ была дополнена примечанием, согласно которому деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч. 3–5 ст. 134 и ч. 2–4 ст. 135 УК РФ (а это ненасильственные половое сношение, иные действия сексуального характера и развратные действия), совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста, считаются изнасилованием или совершением насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка (п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). И судебная практика пошла по пути наказуемости такого рода деяний с 14, а не с 18 лет, как это указано в ст. 134 и 135 УК РФ3. В итоге, за демонстрацию своих половых органов или пересылку сообщения на сексуальную тематику ребенку, не достигшему 12 лет, 14-летний подросток с учетом применения всех льготных норм (ст. 88 УК РФ) может быть приговорен к лишению свободы на срок от 6 до 10 лет как лицо, совершившее особо тяжкое преступление (для сравнения: за убийство малолетнего ребенка такой подросток был бы наказан менее строго — от 4 до 10 лет лишения свободы).
В этой ситуации очевиден конфликт интересов несовершеннолетнего потерпевшего и несовершеннолетнего преступника, а в их лице — конфликт принципа справедливости и принципа гуманизма. Разрешил его Конституционный Суд Российской Федерации. Он встал на сторону интересов потерпевшего ребенка, указав, что положения Конституции Российской Федерации и международных актов, подчеркивая приоритетную защиту прав и интересов несовершеннолетних и малолетних детей, обязывают государство обеспечить безопасность каждого ребенка от неблагоприятных воздействий на его психику, которые могут существенно повлиять на его развитие4.
Такой подход в целом свидетельствует о концептуальном переходе в уголовной политике от «доктрины индивидуализма к доктрине общественной безопасности и обеспечения прав большинства населения» [5, с. 24].
Выводы
-
1. У частной и общей превенции, как у любого социального явления, есть свои антагонисты. Их можно назвать частное и общее попустительство. Чтобы не прийти к ним, нам необходимо в вопросах ювенальной юстиции избегать ходульных эффектов и неестественной, риторической декламации. Справедливое наказание не навредит воспитанию несовершеннолетнего, особенно если оно связано с посильной трудовой деятельностью, а вот попустительство может привести к трагическим последствиям прежде всего для самого подростка.
-
2. Конфликт интересов несовершеннолетнего преступника и несовершеннолетнего потерпевшего основан на противодействии двух основополагающих принципов — гуманизма и справедливости. В современном обществе в случаях, когда паритет не достижим, приоритет отдается принципу справедливости и защите прав несовершеннолетнего потерпевшего.
-
3. Критерии справедливого наказания невозможно перевести в цифры и показатели, но именно они — адекватность причиненному вреду, индивидуальный ретроспективный и прогностический подход — являются определяющими для достижения успехов ювенальной уголовной политики. И этого успеха можно добиться совместными усилиями всех ветвей власти, а также науки и практики.