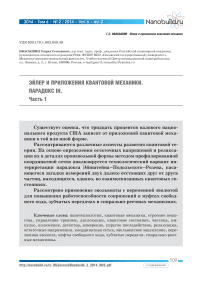Эйлер и приложения квантовой механики. Парадокс IH. Часть 1
Автор: Ивасышин Генрих Степанович
Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild
Статья в выпуске: 2 т.6, 2014 года.
Бесплатный доступ
Существует оценка, что тридцать процентов валового национального продукта США зависят от приложений квантовой механики в той или иной форме. Рассматриваются различные аспекты развития квантовой теории. На основе определения остаточных напряжений и релаксации их в деталях произвольной формы методом профилированной координатной сетки анализируется технологический вариант интерпретации парадокса Эйнштейна-Подольского-Розена, касающегося загадки измерений двух далеко отстоящих друг от друга частиц, находящихся, однако, во взаимосвязанных квантовых состояниях. Рассмотрено применение эвольвенты с переменной эволютой для повышения работоспособности сопряжений в муфтах свободного хода, зубчатых передачах и спирально-реечных механизмах.
Нанотехнологии, квантовая механика, строение вещества, управление трением, дислокации, квантовое состояние, частица, импульс, положение, детектор, измерение, упругое последействие, релаксация, остаточные напряжения, координатная сетка, эвольвентное зацепление, переменная эволюта, муфты свободного хода, зубчатые передачи, спирально-реечные механизмы
Короткий адрес: https://sciup.org/14266061
IDR: 14266061 | УДК: 620.179.1.082.658.58
Текст статьи Эйлер и приложения квантовой механики. Парадокс IH. Часть 1
«…Чем успешнее становится квантовая теория, тем глупее она выглядит…»
А. Эйнштейн, лауреат нобелевской премии по физике в 1921 г.
«…Парадоксы — вот единственная правда!...» Английский писатель, драматург Бернард Шоу первые использовать эвольвенту с постоянной эволютой в зубчатом зацеплении предложил профессор Санкт-Петербургского университета Леонард Эйлер в 1754 году.
Однако, у известного эвольвентного зацепления (с постоянной эволютой) сравнительно высок (на отдельных участках до 21%) коэффициент скольжения.
Статья посвящена повышению работоспособности таких тяжело-нагруженных трибосопряжений, как муфты свободного хода, цилиндрические зубчатые передачи и спирально-реечные механизмы путем профилирования активных поверхностей их рабочих элементов по эвольвенте с переменной эволютой (ЭПЭ). Одним из следствий применения такого профилирования рабочих элементов указанных сопряжений является возможность управления напряженным тепловым состоянием активных поверхностей:
-
• звездочек муфт свободного хода;
-
• зубьев цилиндрических зубчатых передач;
-
• нарезок спиральных дисков спирально-реечных механизмов.
Рассмотрена возможность повышения работоспособности указанных трибосопряжений (приложений квантовой механики) путем применения эвольвенты с переменной эволютой.
Болгарский историк Валерий Чолаков [5] акцентирует внимание на различных аспектах развития квантовой теории.
«…Чтобы как-то согласовать противоречивые выводы, крупный немецкий физик-теоретик того времени Макс Планк высказал смелое предположение. В 1900 г., после 6 лет работы над проблемой излучения абсолютно черного тела, он предположил, что атомы излучают энергию определенными порциями, квантами, причем энергия каждого кванта пропорциональна частоте волны, т.е. цвету излучаемого света. Это ознаменовало рождение квантовой теории. Благодаря этому допущению Планк теоретически вывел закон распределения энергии в спектре абсолютно чёрного тела…».
«…Следующий шаг на пути утверждения идеи квантов был сделан в 1905 г. Альбертом Эйнштейном . В то время как Планк принимал, что излучение происходит порциями, Эйнштейн показал, что и свет имеет квантовую структуру и представляет собой поток световых квантов (фотонов)…».
«…В 1923 г. французский физик Луи де Бройль в своей докторской диссертации «Исследования теории квантов» выдвинул идею о волновых свойствах материи, которая и легла в основу современной квантовой механики. Развив глубже представления Эйнштейна о двойственной природе света, он распространил их на вещество, объединив формулу Планка (согласно которой энергия пропорциональна частоте излучения) с формулой Эйнштейна, связывающей энергию и массу (E = mc2), получил соотношение, показывающее, что любой материальной частице определённой массы и скорости можно приписать соответствующую длину волны…».
«…Молодой немецкий физик Вернер Гейзенберг в 1925 г., в возрасте всего лишь 24 лет, предложил так называемую матричную механику, в основу которой был положен очень удобный математический аппарат. Однако большую известность Гейзенбергу принес его знаменитый принцип неопределённости, сформулированный в 1927 г., когда учёный стал профессором теоретической физики Лейпцигского университета. Этот принцип, представляющий собой фундаментальное положение квантовой теории, гласит, что информация, которую мы можем получить относительно микрообъектов, ограничена самими методами наблюдения. Если мы решим, например, определить положение (координаты) частицы, то для этого нам придется облучить ее фотонами. Но вследствие взаимодействия с фотонами частица изменит свое положение, так что полученный результат будет «неточным»…».
«…Принцип неопределённости Гейзенберга утверждал неприменимость законов классической механики в квантовой теории. В новой, волновой квантовой механике, необходимы были иные понятия, нежели в классической механике. Так, в модели атома вместо электронных

Г.С. ИВАСЫШИН Эйлер и приложения квантовой механики орбит (фигурирующих в классической модели атома Бора) были введены так называемые электронные облака, в пределах которых электрон находится с определённой степенью вероятности…».
«…Согласно представлениям классической физики, чтобы перейти из одного энергетического состояния в другое, частица должна преодолеть так называемый потенциальный барьер, т.е. должна обладать достаточной энергией, чтобы «оторваться» от системы, в которой находится. Однако в странном мире квантовых явлений частицы свободны от этих ограничений. Они как бы используют некий «туннель», который позволяет им проникать через потенциальный барьер. Это довольно странное на первый взгляд явление вытекает из принципа неопределённости Гейзенберга.
Рассмотрим в качестве примера альфа-частицу. Она состоит из двух протонов и двух нейтронов, находящихся в атомном ядре. Если альфа-частица получает достаточно большую энергию, то она, преодолев ядер-ные силы, покидает ядро – тогда-то и наблюдается альфа-излучение. Однако, как указывает соотношение неопределённостей, обычно невозможно одновременно определить координату и импульс микрочастицы. Этим и объясняется следующее парадоксальное явление: частицы с энергией меньшей, чем необходимо для преодоления потенциального барьера, могут пройти сквозь него…».
«…Дальнейшее развитие квантовая теория получила в исследованиях английского физика Поля Дирака . В 1928 г. он создал релятивистскую теорию движения электрона, применив в квантовой механике соотношения теории относительности. Дирак сумел объединить релятивистские представления с представлениями о квантах и спине (собственном моменте вращения микрочастицы)…» [5].
«…Для описания структуры и процессов на атомном уровне физики создали мощный инструмент – квантовую механику. Зная массу и заряд ядра атома, с помощью квантовой механики принципиально можно установить не только строение отдельного атома, но и любого агрегата атомов. Однако фактические достижения в этом направлении ещё далеки от уровня, на котором находятся основы теории…» [3].
Парадокс Эйнштейна–Подольского–Розена (ЭПР) , касающийся загадки измерений двух далеко отстоящих друг от друга частиц, находящихся, однако, во взаимосвязанных квантовых состояниях («…сей-час такого рода корреляция называется квантовой запутанностью…»)
Г.С. ИВАСЫШИН Эйлер и приложения квантовой механики
[4], а также определённые трудности теории дислокаций, связанные, в частности, с тем, что в 1 см3 холоднодеформированного металла находится ~1 млн км дислокаций, расположенных не упорядоченными рядами, а образующими запутанные клубки, объясняют тот факт, что «…до сих пор не удалось получить даже приближенных решений квантовой механики…» [3].
Цель настоящей работы – обеспечение условий управления внутренним и внешним трением в трибосопряжениях за счет оптимизации геометрокинематических и теплофизических параметров, а также на основе разработки подхода к решению парадокса Эйнштейна– Подольского – Розена (ЭПР).
Постановка задач:
-
1. Анализ технологического варианта интерпретации парадокса Эйнштейна–Подольского–Розена (ЭПР).
-
2. Профилирование активных поверхностей рабочих элементов звездочек муфт свободного хода, зубьев цилиндрических зубчатых передач, нарезок спиральных дисков спирально-реечных механизмов по эвольвенте с переменной эволютой (ЭПЭ).
«…Причудлив парадоксов путь, с ним здравый смысл ты забудь…» Английский физик У. Гилберт
«…Наука часто развивается такими путями: прорастая вверх с помощью выворачивания наизнанку здравого смысла, освещая старую проблему лучом света с новой стороны…»
«…Научное исследование состоит в том, чтобы видеть то, что видит каждый, но думать то, чего не думает никто…» Венгерский биохимик Альберт Сент-Дьёрдьи
К ВОПРОСУ О ПАРАДОКСЕ ЭЙНШТЕЙНА–ПОДОЛЬСКОГО–РОЗЕНА (ЭПР)
«…Последним заметным вкладом Эйнштейна в развитие физики стала работа, посвящённая парадоксу Эйнштейна–Подольского–Розена (ЭПР), опубликованная в 1935 году, в которой он ставит под сомнение традиционную вероятностную интерпретацию квантово-механической волновой функции. Работа была написана совместно с Борисом Подольским и Натаном Розеном, коллегами Эйнштейна по Институту фундаментальных исследований. Парадокс ЭПР касается загадки измерений двух далеко отстоящих друг от друга частиц, находящихся, однако, во взаимосвязанных квантовых состояниях. Сейчас такого рода корреляция называется квантовой запутанностью, а математик и физик из Оксфорда Роджер Пенроуз любит называть её «quaglement».
Эйнштейн, Подольский и Розен (ЭПР) предполагали, что две частицы, скажем, одинаковой массы изначально находятся в квантовом состоянии точно известного расстояния между ними и точно известного полного импульса . Например, их может разделять расстояние в 100 метров, а полный импульс, который является суммой импульсов двух частиц, может равняться в точности четырем единицам импульса. Это не противоречит принципу неопределенности, поскольку точная величина (с нулевой неопределенностью) суммы импульсов частиц требует большой неопределенности суммы положений частиц, но не ставит никаких условий для неопределенности расстояния между частицами, то есть разницы их положений.
При наличии такой пары частиц предполагается, что положение первой частицы точно измеряется с помощью некоего детектора неболь- шого размера. Поскольку уже известно, что вторая частица находится на расстоянии 100 метров, то измерение точного положения первой частицы позволяет вывести точное положение второй. Затем ученые доказывают, что поскольку детектор мал и работает только вблизи первой частицы, то он не возмущает вторую, и, таким образом, эта вторая частица должна обладать установленным положением еще до того, как было произведено ее измерение. Соответственно, утверждается, что точное (хотя и неизвестное) значение положения второй частицы уже существовало еще до проведения измерений.
Далее они предполагают, что вместо измерения положения измеряется импульс первой частицы. Поскольку полный импульс уже известен, измерение импульса первой частицы позволяет вывести импульс второй, и снова доказывается, что, поскольку это измерение никак не возмущает вторую частицу, точное значение импульса второй частицы опять же должно существовать еще до проведения измерений.
Итак, и положение, и импульс второй частицы должны иметь точные значения до измерения, что противоречит квантовой механике, которая утверждает, что положение и импульс любой частицы никогда нельзя определить одновременно. На основании этого парадоксального результата Эйнштейн, Подольский и Розен заключают, что квантовая механика несовершенна , поскольку дает описание частиц, которое не так точно, как может быть. По их мнению, описание частиц в квантовой механике должно дополняться некими дополнительными «скрытыми переменными», которые определяют точные значения положения и импульса, на существование которых указывает их доказательство.
Доказательство Эйнштейна, Подольского и Розена связано с реальным существованием свойств частиц и с локальным характером измерений, произведенных над частицей. Положение и импульс второй частицы, предположительно, существуют сами по себе, даже если мы их не измеряем, а измерение, произведенное над первой частицей, предположительно, не имеет возмущающего влияния на вторую частицу. Бор и другие защитники квантовой механики ставили под сомнение ЭПР-парадокс, отрицая оба эти предположения. Они утверждали, что частицы имеют свойства не сами по себе, а лишь по отношению к процедуре измерений, и что, когда измерение проводится над одной из пары запутанных частиц, это влияет и на другую частицу, даже при условии, что она находится очень далеко от места измерения…» [4].
«…Сама работа имела далеко идущие последствия для квантовой механики, и споры вокруг ЭПР-парадокса и квантовой запутанности не утихают среди физиков и философов и по сей день. Благодаря этой работе не так давно стали проводиться эксперименты со скрытыми переменными, квантовой запутанностью и «телепортацией», своего рода квантовой магией, когда измерения в одном месте вызывают изменения квантово-механического состояния в другом, удалённом месте, недоступном для сигналов из первого…» [4].
«…Наиболее удивительный вывод, вытекающий из квантовой теории, состоит в том, что квантовая частица, хоть и обладает корпускулярным свойством дискретности, теряет тем не менее присущую классической частице способность одновременно занимать определённое положение в пространстве и иметь при этом определённую скорость.
Иногда эту мысль выражают следующим образом: невозможно одновременно измерить положение и скорость квантовой частицы…» [2].
«…Но невозможность таких измерений не является, вообще говоря, достаточным основанием отрицать, что частица может одновременно обладать определённым положением и скоростью, или, выражаясь более точно, что следовало бы отказаться от попыток создать теорию, в которой квантовая частица одновременно имела бы определённое положение и скорость».
Таким образом, если рассматривать только такие объекты, которые действительно существуют в нашем мире, то оказывается невозможным (даже мысленно) одновременное измерение положения и скорости, поскольку световые частицы, электроны, да и все другие частицы обладают фундаментальными квантовыми свойствами.
При попытке определить положение одного квантового объекта с помощью другого одна из характеристик первого становится абсолютно неконтролируемой. Чтобы измерить положение частицы с большой точностью, мы вынуждены использовать другую частицу с очень короткой длиной волны, которая при измерении существенно изменяет импульс первой частицы. Обдумывая все эти мысленные опыты, Гейзенберг показал, что в рамках существующей квантовой теории максимально возможные точности измерения положения и импульса находятся из его принципа неопределённости…» [2].
На основе научного открытия «Закономерность аддитивности упругого последействия в объемных частях и поверхностных слоях пар
Г.С. ИВАСЫШИН Эйлер и приложения квантовой механики трения» (Диплом № 258) [1] разработано оригинальное техническое решение: «Способ определения релаксации остаточных напряжений в деталях».
Формула изобретения «Способ определения релаксации остаточных напряжений в деталях» [10]
«Способ определения релаксации остаточных напряжений в деталях, например в спиральных дисках токарных самоцентрирующих спирально-реечных патронов, заключающийся в том, что на деталь наносят координатную сетку и о величине остаточных напряжений судят по изменению расстояния между характерными точками координатной сетки после приложения нагрузки, сопоставляя измеренные отклонения с тарировочным графиком, отличающийся тем, что, с целью упрощения технологии испытания, в качестве координатной сетки используют элементы конструкции детали, например выполненную на поверхности диска спираль, и измеряют изменение расстояния между элементами конструкции детали, например отклонение шага и профиля спирали диска.»
Согласно А.Г. Рахштадту , обратное упругое последействие представляет собой деформацию под воздействием остаточных напряжений.
Имея в виду это замечание А.Г. Рахштадта, а также анализируя гамму деформационных кривых, интерпретирующих координаты и импульсы измерений точек (частиц), находящихся в квантовом состоянии и на известном расстоянии друг от друга, представляется возможным заключить, что парадокс Эйнштейна–Подольского–Розена (ЭПР) разрешим на технологическом уровне .
Парадокс IH заключается в технологической интерпретации парадокса ЭПР, а также метрологической версии его разрешения.
Создание конкурентоспособных технологий на основе научных открытий (Дипломы № 258, 277, 289, 302 [1]) даст возможность сформировать определенный научно-технический потенциал в области микро- и нанотехнологий, адекватный современным вызовам мирового технологического развития [11–15].
Продолжение читайте в Интернет-журнале «Нанотехнологии в строительстве» №3/2014