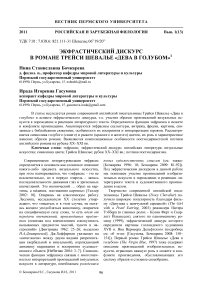Экфрастический дискурс в романе Трейси Шевалье «Дева в голубом»
Автор: Бочкарева Нина Станиславна, Гасумова Ирада Игоревна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1 (13), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется роман современной английской писательницы Трейси Шевалье «Дева в голубом» в аспекте экфрастического дискурса, т.е. участия образов произведений визуальных искусств в порождении и рецепции литературного текста. Определяются функции экфрасиса в сюжете и конфликте произведения. Анализируются экфрасисы скульптуры, витража, фрески, картины, связанные с библейскими сюжетами, особенности их восприятия и интерпретации героями. Рассматривается символика голубого (синего) и рыжего (красного и желтого) цветов, их роль в характеристике женских образов романа. Выявляются композиционные особенности постмодернистской поэтики английского романа на рубеже XX-XXI вв.
Экфрасис, экфрастический дискурс, английская литература, визуальные искусства, символика цвета, трейси шевалье, рубеж xx-xxi вв., поэтика постмодернизма
Короткий адрес: https://sciup.org/14728980
IDR: 14728980 | УДК: 7.01:
Текст научной статьи Экфрастический дискурс в романе Трейси Шевалье «Дева в голубом»
Современными литературоведами экфрасис определяется в основном как словесное описание какого-либо предмета визуального искусства, при этом подчеркивается, что «экфрасис – это не исключительно, но в первую очередь – запись последовательности движения глаз и зрительных впечатлений. Это иконический … образ не картины, а видения, постижения картины» [Геллер 2002: 10]. Опираясь на классическую работу Лессинга, исследователи ХХ столетия утверждают, что «писатель и в этом случае, не пытаясь всецело уподобляться живописцу, опирается на специфическую силу слова, то есть идет от передачи впечатлений, производимых предметом (понимая под впечатлением совокупность вызываемых предметом мыслей, чувств и настроений)» [Дмитриева 1962: 25–26; выделено Н.А.Дмитриевой]. Дж.Хеффернан указывает на «антагонизм» между двумя видами репрезентации (вербальной и визуальной), порождающий динамику выражения и восприятия художественного объекта [Heffernan 2004: 3–7]. Символическая функция экфрасиса связана с многозначностью интерпретаций произведений визуальных искусств в литературе, неизбежным рождением новых художественных смыслов (см. также: [Бочкарева 1996: 10; Бочкарева 2009: 81-92]). Под экфрастическим дискурсом в данной работе мы понимаем участие произведений изобразительных искусств в порождении и рецепции литературного текста и художественного произведения в целом.
Творчество современной английской писательницы Трейси Шевалье ( Tracy Chevalier ) получило широкую популярность благодаря фильму «Девушка с жемчужной сережкой» ( The Girl with a Pearl Earring , 2003) режиссера Питера Уэббера (в главных ролях – Колин Ферт и Скарлетт Йоханссон), снятого по одноименному роману (1999), экфрастический дискурс которого определили картины голландского художника XVII в. Яна Вермеера Дельфтского (подробнее см. об этом: [Гасумова, Бочкарева 2008: 150– 154]). Первый роман Трейси Шевалье «Дева в голубом» ( The Virgin Blue , 1997) тоже содержит описание произведений изобразительных искусств, играющих важную роль в сюжете и конфликте произведения, обусловливающих его систему образов и стилевое своеобразие.
Повествование в романе «Дева в голубом» разделено в соответствии с двумя историческими эпохами (ср. с произведениями П.Акройда «Чат-тертон», 1987 или А.Байетт «Обладание», 1999). По аналогии с романом «Обладание» центральное место в сюжете занимает расследование родословной главной героини, которое у Байетт носит преимущественно филологический характер, а у Шевалье – культурологический. В романе «Дева в голубом» повествование о современности ведется от первого лица – от имени героини- американки Эллы Тернер (по фр. Турнье), которая вместе мужем эмигрировала во Францию и обрела здесь свой дом2. История француженки XVI в. Изабели Мулен (в замужестве – Турнье) рассказывается от третьего лица, хотя в повествовании часто используется несобственнопрямая речь героини, которая отражает ее вúдение окружающего мира. В эпилоге мы узнаем, что обе истории написала Элла Тернер. Таким образом, перед нами оказывается роман о романе , в котором современная героиня реконструировала в виде романа историю XVI в. на основе своих разысканий, интуиции и воображения.
Постмодернистский «множественный» финал романа, во-первых, предлагает три варианта судьбы Изабели Турнье, во-вторых, намекает на возможную связь между сыном Изабели Жакобом Турнье, чувствующим красоту цвета и формы, и художником Николя Турнье, на картине которого Элла Турнье видит мучивший ее голубой цвет одеяний Девы Марии. В мистическом мире романа найденные Эллой останки принесенного в жертву ребенка с рыжими волосами и голубым куском ткани связываются с дочерью Изабели Марией, фактически убитой собственным отцом из-за религиозных разногласий. Проблема непонимания в семье и в обществе становится центральной в романе Трейси Шевалье и объясняет развод Эллы с мужем, от которого она ждет ребенка.
Символика цвета является важнейшей составляющей экфрастического дискурса романа «Дева в голубом». В эпиграфе к роману [Chevalier 2002]3, взятом из работы И.В.Гете4 «К учению о свете (хроматика)», синий (blue) противопоставляется желтому (yellow) как тьма (darkness) – свету (light): «Как желтый цвет всегда несет с собой свет, так про синий можно сказать, что он всегда несет с собой что-то темное. Этот цвет оказывает на глаз странное и почти невыразимое воздействие. Как цвет это – энергия; однако он стоит на отрицательной стороне и в своей величайшей чистоте представляет из себя как бы волнующее ничто (отрицание. – Н.Б., И.Г.). В нем совмещается какое-то противоречие возбуждения и покоя» [Гете 1957: 315]. У Трейси Шевалье желтый и синий не противопоставляются, а сближаются. Тем не менее символика синего цвета, раскрываемая Гете, несомненно, повлияла на восприятие автора и героев романа: «Как высь небес и даль гор мы видим синими, так и синяя поверхность кажется как бы уходящей от нас. Подобно тому, как охотно мы преследуем приятный предмет, который от нас ускользает, так же охотно мы смотрим на синее, не потому, что оно устремляется в нас, а потому, что оно влечет нас за собою. Синее вызывает в нас чувство холода, так же как оно напоминает нам о тени. Мы знаем, как оно выводится из черного … Синее стекло показывает предметы в печальном виде» [там же: 316].
В.В.Кандинский, вслед за Гете, выделял соотношение синего и желтого цвета в особую оппозицию, различающуюся по направленности цвета: «Если сделать два круга равной величины и заполнить один желтым, а другой синим, то уже после короткой концентрации на них становится заметным, что желтое лучеиспускает, приобретает движение из центра и почти осязаемо приближается к человеку. Синее же развивает центростремительное движение (подобно стягивающей себя в свой домик улитке) и удаляется от человека. Первый круг колет глаз, во втором глаз утопает» [Кандинский 1990: 40]. Русский художник, основатель группы «Синий всадник», подчеркивал особую духовность синего цвета: «Синее есть типично небесная краска. Очень углубленное синее дает элемент покоя. Опущенное до пределов черного оно получает призвук человеческой печали» [там же: 43].
Дева Мария «часто изображена в голубых одеяниях», что «легко объяснимо, поскольку синий – цвет небес, божественной любви и истины» [Турчин 1991: 37]. Однако «Деву Марию не всегда изображали в голубом одеянии: только с XII в. западноевропейские живописцы стали ассоциировать ее образ преимущественно с этим цветом … Раньше пресвятую Деву изображали в одеждах разных цветов, но чаще всего темных оттенков: в черном, сером, коричневом, фиолетовом. Цвет ее одеяний должен был ассоциироваться со скорбью, трауром … в первой половине XII в. темных тонов в этой палитре становится все меньше, и постепенно делается атрибутом скорбящей Богоматери единственный цвет: синий. Вдобавок он приобретает более светлый, привлекательный оттенок: из тусклого и угрюмого, каким он оставался долгие столетия, синий мало-помалу превращается в ясный и жизнерадостный» [Пастуро 2010: 247].
Роман Трейси Шевалье начинается с экфраси-са статуи Мадонны с младенцем ( a statue of the Virgin and Child ), установленной в нише над дверью церкви. Эту нишу будущий свекор Изабели – Жан Турнье – покрасил в «глубокий синий цвет ясного вечернего неба» ( a deep blue the colour of the clear evening sky ). Синий, или голубой, цвет и в дальнейшем будет ассоциироваться с Девой Марией. Но вместо самой статуи (ее материала, цвета, формы) автор описывает связанное с ней «чудо», в результате которого изменили цвет волосы Изабели (her hair changed colour in the time it takes a bird to call its mate5): «…the sun appeared from behind a wall of clouds and lit up the blue so brightly that Isabelle clasped her hands behind her neck and squeezed her elbows against her chest. When its rays reached her, they touched her hair with a halo of copper that remained even when the sun had gone. From that day she was called La Rousse after the Virgin Mary» (1). Солнце придало волосам Изабели медный оттенок, а местные жители, увидев над головой девочки светящийся нимб, приписали это «чудо» статуе Девы Марии.
Сходное изменение претерпевают в романе волосы Эллы, когда она приезжает на родину Изабели: «…it was shot through with coppery highlights. But it had been brown when I’d looked at myself in the mirror that morning. The sun had brought out highlights in my hair before, but never so fast or so dramatically» (113). Даже камни в реке Тарн (Tarn) красного и желтого цвета: «I studied the pebbles in deep reds and yellows gleaming under the water» (109). Хранитель местного архива объясняет по-французски прозвище девушки с красным оттенком в волосах: C’est rouge. Alors, La Russe . Местные жители называли так Мадонну, потому что считали, что у нее были рыжие ( red ) волосы. В баре сначала Жан-Поль, а затем и сама Элла замечают, что падающий свет ( nice light ) окрашивает ее волосы в медь и золото (it was touching my hair with copper and gold) (174).
Вернемся к Изабели. Эффект освещения (the sun, lit up, so brightly, its rays) связывает голубой (blue) цвет ниши статуи Мадонны и медное сияние (a halo of copper) ее волос. С этих пор голубой цвет (the blue), даже потускневший (faded), оказывает на Изабель магическое воздействие, своей энергией заставляя ее осенить себя крестом (это же сделает Элла перед картиной Тур-нье): «Isabelle stared up at the Virgin, the blue behind the statue faded but with a power still to move her. She had already touched her forehead and her chest before she realized what she was doing and managed to stop without completing the cross. She glanced around to see if the gesture had been no-ticed» (6–7). Под влиянием учения Кальвина об- раз Мадонны получает негативную трактовку, что отражается на жизни Изабели, вынужденной скрывать свое поклонение Деве Марии, как и свои рыжие (red) волосы. Коробейник6, продавший Изабели венецианскую голубую ткань, уверяет, что такие же прекрасные (beautiful) волосы были у Мадонны (the colour of the Virgin’s hair) (196), хотя с роскошными рыжими волосами живописцы изображали чаще всего Марию Магдалину.
Конфронтация героини романа Т.Шевалье и общества, безжалостного в своем религиозном фанатизме, позволяет соотнести Изабель с Эстер Прин (героиней романа американского писателя XIX столетия Н.Готорна «Алая буква»), подвергнутой горожанами показательному наказанию за супружескую измену в виде обязанности носить на одежде вышитую алыми нитками букву А (сокращенное от adultery ). Важно отметить, что Эстер полюбила именно священника. С Христом (пастырем) символически связан образ пастуха Поля, которого Изабель встречала у реки, а мотив супружеской измены соединяет Эстер с Эллой (у возлюбленного Эллы Жан-Поля, как и у пастуха Поля, волосы черного цвета). Примечательно, что в названиях романов Н.Готорна и Т.Шевалье присутствует обращение к символике цвета (The Scarlet Letter и The Virgin Blue) .
Рыжий (медный) цвет волос Изабели (а затем и Эллы) состоит из желтого и красного. Желтый цвет в европейской культурной традиции – «это цвет изгоев, отверженных» [Турчин 1991: 36]. У Шекспира в «Зимней сказке» желтый ( yellow ) ассоциируется с безумием: «Многое, выходящее за грани разума, символизировал желтый: Сумасшествие, Шутовство и просто очень большую Глупость … Вызов» [Чернова 1987: 110]. При этом золотистые цвета (чудом застывшие лучи) задолго до Шекспира означали Свет, Благодать, Слово, Просвещение, Мудрость, Милость, Избранность, а «ярко-красный с малой примесью желтого считался королевским цветом – как бы овеществленный свет Солнца Красного, которое своими лучами окрасило мантии королей, королев, их сановников и судей» [там же: 109, 107].
В романе Трейси Шевалье происхождение медного оттенка волос Изабели интерпретируется сходным образом, но через экфрасис витражного окна под нишей красный цвет характеризуется по-другому: «Above the door, a small circular window held the only piece of glass they had ever seen … From the outside the window was dull brown, but from the inside it was green and yellow and blue, with a tiny dot of red in Eve’s hand. The Sin. Isabelle had not been inside the church for a long time, but she remembered the scene well, Eve’s look of desire, the serpent’s smile, Adam’s shame» (7). Из четырех упоминаемых цветов (green, yellow, blue, red), без солнечного света сливающихся в уныло коричневый (dull brown), именно красный (red) связан с образом Евы (женщины и матери) как цвет греха сладострастия.
Красный, как и синий, в романе Трейси Шевалье имеет тенденцию к переходу в черный (о противоречивой символике красного и черного в рассказах А.Байетт см.: [Бочкарева, Дарененкова 2009: 69-75; Дарененкова 2010: 191-201]). Сок черного каштана ( black walnuts ), которым Изабель могла бы скрыть рыжий ( red ) оттенок волос своей дочери Мари (72), соотносится с обозначением рыжего цвета волос самой Изабели как «каштанового» ( chestnut ) (2). Имя Изабель (или Иезавель – библейская жена царя Ахава) с XVI в. употребляется в английском языке как синоним слова «распутница», синоним греха и злодеяния [Дин 1995: 127]. Но если жена Ахава поклонялась Ваалу, Изабель Турнье поклоняется Мадонне, а настоящее злодеяние совершают ее муж и сверковь. Многозначность и противоречивость символики цвета и имени связана в романе с многозначностью библейской реминисценции и экфрасиса.
Разрушение сначала витража, а затем и статуи Мадонны с Младенцем, несмотря на их принадлежность герцогу, объясняется не столько религиозным фанатизмом, сколько общим невежеством и инстинктом толпы: «No one knew for certain who threw the stone, though afterwards several people claimed they had. It struck the centre of the window and shattered immediately. It was a sound so strange that the crowd hushed. They had not heard glass break before» (7–8). Когда один из мальчишек от незнания порезался стеклом, всю вину тотчас перенесли на Дьявола и Изабель.
У самой героини религиозное чувство тесно связано с эстетическим восприятием . Она верит, что если бы люди проникли в закрытую церковь и еще раз увидели витражное окно, освещенное солнцем, его красота остановила бы их: «If they could have seen it once more, the sun lighting up the colours like a field dense with summer flowers, its beauty might have saved it. But there was no sun, and no entering the church: the priest had slipped a large padlock through the bolt across the door» (7). Сравнивая краски витража ( the sun lighting up the colours ) с полем цветов ( like a field dense with summer flowers ), Изабель демонстрирует открытость своего эстетического видения мира природе и Богу. В этой связи многозначен лейтмотив солнца (освещения), символичен мотив спасения, а также образ закрытой двери.
Разрушение статуи Девы Марии выявляет одну из важнейших функций экфрасиса в романе – раскрытие внутреннего конфликта героини, связанного с ее будущим мужем – Этьеном Турнье. Примечательно, что в самом начале сцены, определившей трагическую судьбу героини, упоминаются «бледно-голубые глаза» ( pale blue eyes ) Этьена. Именно он подает ей грабли, которыми она была вынуждена разрушить статую. В конце сцены он вместе с толпой начинает бросать грязь в голубую нишу ( throwing dung at the blue niche ). В ответ Изабель мысленно прощается с цветом Мадонны: «I will never see such a colour again, she thought» (9). Голубой цвет глаз отца унаследует дочь Этьена и Изабели – Мари, ясный взгляд которой так же устремлен на Изабель, как и взгляд Мадонны: «Marie had her father’s pale blue eyes and, to Isabelle’s relief, his blond hair as well <…> Marie’s bright eyes gazed up at her now, perturbed, uncertain. Isabelle had never been able to lie to her» (72). Не допускающий лжи, этот взгляд предупреждает о том, что Мари будет принесена в жертву, как и статуя Мадонны. Не исключено, что для Изабели это страшная жертва за то, что статуя была разрушена именно ее руками.
Центральная часть экфрасиса выражает внутреннее напряжение героини, ее непосредственное общение со статуей, которую она разрушает под крики и смех толпы – «массы ярко-красных лиц», «тяжелых и холодных» ( the mass of bright red faces … hard and cold ). Изабель несколько раз поднимает грабли и наносит удары, начиная с основания статуи: «She raised the rake, propped it against the base of the statue and pushed. It did not move. The shouting became harsher as she began to push harder, tears pricking her eyes» (9). Взгляды Мадонны и Младенца, устремленные в разные стороны, подчеркивают удаленность героини от неба: «The Child was staring into the distant sky, but Isabelle could feel the Virgin’s gaze on her. ‘Forgive me’, she whispered. Then she pulled the rake back and swung it as hard as she could at the statue. Metal hit stone with a dull clang and the face of the Virgin was sliced off, showering Isabelle and making the crowd shriek with laughter. Desperately she swung the rake again. The mortar loosened with the blow and the statue rocked a little» (9). Под действием металлических грабель в первую очередь отделяется устремленное на Изабель и как будто укоряющее ее лицо каменной статуи, у которой героиня просит прощение за совершаемое.
Последний акт разрушения отличается особым драматизмом: «The statue began to rock, the faceless woman rocking the child in her arms. Then it pitched forward and fell, the Virgin’s head hitting the ground first and shattering, the body thumping after. In the impact of the fall the Child was split from his mother and lay on the ground gazing upwards. Isabelle dropped the rake and covered her face with her hands. There were loud cheers and whistles and the crowd surged forward to surround the broken statue» (9). Важную роль играет «оживание» статуи в восприятии Изабели: сначала она чувствует на себе взгляд Мадонны (Isabelle could feel the Virgin’s gaze on her), потом раскачивающееся изваяние представляется ей безликой женщиной, качающей младенца на руках (the faceless woman rocking the child in her arms). При этом взгляд божественного ребенка всегда устремлен в небо (The Child was staring into the distant sky … the Child was split from his mother and lay on the ground gazing upwards). С небом сравнивается голубой цвет платья девочки (looked like a sky) в сказке Эллы (277).
Если в двух первых экфрасисах статуи Мадонны с Младенцем подчеркивался только голубой цвет ниши, в последнем, развернутом описании, в динамике разрушения показаны части тел, меняющиеся позы и устремленность взглядов матери и ребенка, их внешнее и внутреннее взаимодействие. Эта сцена отличается пластической монументальностью и живописным лаконизмом. Архитектоническая четкость «трех актов» этой короткой драмы усиливается контрастом симметрично повторяющихся цветов: красного (сопровождение первого и третьего актов) и синего (общее обрамление). Синий цвет от бледно-голубого «опускается до пределов черного».
Поскольку субъектом сознания является Изабель, разрушение статуи описано с ее пространственной позиции. Причем героиня оказывается в пространственном фокусе (в центре) вместе с разрушаемой ею скульптурой, тем самым отделяясь от наступающей на нее и Мадонну фанатичной толпы. Это отделение выражает внешний конфликт героини с окружающими, который усиливается обозначенным выше внутренним конфликтом. В сюжетном отношении данный экфрасис обозначает поворотный пункт в судьбе главной героини: после разрушения статуи и публичного отказа от Мадонны Изабель соединяется с Этьеном, ждет ребенка и уходит в семью Турнье.
Однако публичный отказ от Девы Марии не означает для Изабели внутреннего отречения от Мадонны. Разрушая статую, она просит прощения за вынужденный грех. После ухода Сюзанны, сестры мужа, которая поддерживала Изабель в семье Турнье, она снова видит голубой цвет Мадонны: «…she thought of the blue of the Virgin, a colour she had not seen in years but could picture at this moment as if the walls of the house were painted with it <…> The empty spaces at the table were shimmering with blue light» (74–75). Значима игра слов «голубой цвет» (the blue, a colour) и «голубой свет» (blue light).
Центральное место в композиции сюжета романа Трейси Шевалье «Дева в голубом» занимает экфрасис картины Николя Турнье «Снятие с креста», увиденной глазами современной героини – Эллы Турнье. Предваряет этот экфрасис трижды повторяемое описание сна Эллы, который она видит в период зачатия ребенка: «Some-thing did change that night. That night I had the dream for the first time. It began with flickering, a movement between dark and light. It wasn’t black, it wasn’t white; it was blue. It was dreaming in blue. It moved like it was being buffeted by the wind, undulating toward me and away. It began to press into me, the pressure of water rather than stone. I could hear a voice chanting. Then I was reciting too, the words pouring from me. The other voice began to cry; then I was sobbing. I cried until I couldn’t breathe. The pressure of the blue closed in around me. There was a great boom, like the sound of a heavy door falling into place, and the blue was replaced by a black so complete it had never known light» (32-33). Движение голубого ( blue ) изменяется от мерцания между темным ( dark ) и светлым ( light ), черным ( black ) и белым ( white ) к полному вытеснению голубого ( blue ) черным ( black ), отсутствию света ( light ).
Давление воды вместо камня, песнопение и декламация, грохот падающей двери в описании сна ассоциативно связывают проанализированную нами ранее сцену разрушения надвратного декора церкви (витражного окна и каменной статуи) во Франции (первая глава) с кульминационным эпизодом смерти Мари (глава девятая), которая, вероятно, утонула в реке7 после удара, нанесенного отцом, и была погребена под каменной плитой в новом доме Турнье в Швейцарии. В конце девятой главы впервые соединяются два повествования, два времени, две судьбы (Изабели и Эллы) через повторяющееся описание погребения, которое заканчивается цитатой из псалма8 и упоминанием о цвете: «Then there was no more blue; all was red and black» (264–265). Как и в первой главе, обозначается связь голубого (blue) , красного (red) и черного (black) .
Во второй главе романа, когда Элла впервые видит картину Николя Турнье, появление голубого в ее снах сопровождается псориазом – красными кругами чешуйчатой кожи: «I studied the circle of red, scaly skin» (34). Любопытно замечание, что Жан-Поль смотрит на пятна красной чешуйчатой кожи как на необычную современную живопись ( a curious modern painting ), а муж
Эллы отводит взгляд. На реке она наблюдает за темными ( dark ), красными ( red ), цвета ржавчины ( rust-red ), пятнами (43). Дразнящая игра красного (розового), черного и синего (голубого) пронизывает описания Лиль-сюр-Тарна и его жителей в восприятии Эллы.
Описывая свой сон Жан-Полю, Элла пытается охарактеризовать оттенок голубого: «That’s too bright. Very vivid. But it’s bright and yet dark too. I don’t know the technical words to describe it. It reflects lots of light. It’s beautiful but in the dream it makes me sad. Elated too. It’s like there are two sides to the colour. Funny that I remember the colour. I always thought I dreamed in black and white» (52). Как и в первом описании сна, голубой характеризуется через вариативное противопоставление тьмы ( dark ) и света ( light ), черного ( black ) и белого ( white ); отмечаются две стороны цвета и появляются новые эпитеты: яркий ( bright ), живой ( vivid ), красивый ( beautiful ), печальный ( sad ), ликующий ( elated ). Примечательно, что у героини Трейси Шевалье, в отличие от Гете, преобладает положительная характеристика синего (голубого), более близкая Кандинскому. Последнее описание сна «менее импрессионистическое, более осязаемое»: «…it was less impressionistic, more tangible than ever. The blue hung over me like a bright sheet, billowing in and out, taking on texture and shape <…> ‘A dress’, I whispered. ‘It was a dress’» (56). Волна голубого ( blue ) напоминает яркое полотно ( bright sheet ), обретая плотность ткани и форму платья ( dress ), которое нависает ( hung over ) над Эллой.
Картина Николя Турнье, непосредственное описание которой приводится в конце второй главы романа, находится в Музее августинцев, где располагается коллекция живописи и скульптуры. Элла подчеркивает вульгарное ( blatant ) использование церкви под картинную галерею, тем самым указывая на дистанцию, отделяющую средние века от рубежа XX-XXI столетий, и попытку ее преодоления: «…I stood in the doorway admiring the effect of a large empty space hanging over the paintings, swamping and diminishing them» (62). Огромное пустое пространство церкви нависает ( hanging over ) над картинами, вызывая ассоциации со сном Эллы (характерен и глагол swamp – ‘затоплять’).
Героиня символически преодолевает временную дистанцию, постепенно приближаясь к картине: «A flash in my peripheral vision made me look toward a painting on the opposite wall. A shaft of light had fallen across it and all I could see was a patch of blue. I began to walk toward it, blinking, my stomach tightening» (62). Пятно голубого цвета (a patch of blue), как вспышка (a flash), притя- гивает ее зрение (vision, look, see). Усиливает зрительное впечатление лейтмотив падающего на картину луча света (a shaft of light had fallen across it). Динамика пространственных отношений (toward, opposite, across), реакция глаз (blinking), живота (tightening) отражают внутреннее напряжение Эллы.
Лаконичное описание композиции картины отсылает читателя к традиционному изображению библейского сюжета «Снятие с креста» в живописи. Но в центре внимания Эллы оказывается не тело Христа, а лицо его матери: «It was a painting of Christ taken off the cross, lying on a sheet on the ground, his head resting in an old man’s lap. He was watched over by a younger man, a young woman in a yellow dress, and in the centre the Virgin Mary, wearing the robe the very blue I’d been dreaming of, draped around an astonishing face. The painting itself was static, a meticulously balanced tableau, each person placed carefully, each tilt of the head and gesture of the hands calculated for effect. Only the Virgin’s face, dead centre in the painting, moved and changed, pain and a strange peace battling in her features as she gazed down at her dead son, framed by a colour that reflected her agony» (62–63). Статика классической композиции картины нарушается под действием голубого цвета одеяния Девы Марии, своей противоречивостью придающего динамику ( moved and changed ) ее лицу, поразительному ( astonishing ) в своем страдании ( agony ): боль и странный покой боролись на нем ( pain and a strange peace battling in her features ).
Непосредственная реакция Эллы повторяет реакцию Изабели на голубой цвет ниши со статуей Мадонны: «As I stood in front of it, my right hand jerked up and involuntarily made the sign of the cross. I had never made such a gesture in my life» (63). В описании картины упоминается также желтый цвет одеяния молодой женщины (Марии Магдалины), чей образ традиционно связан с темой отверженности.
В экфрасис этой картины входит также информация о ее авторе, чье имя станет известно читателю только в четвертой главе, где картину заменит репродукция на почтовой карточке. Комментируя свои впечатления, Элла однозначно связала сон и картину: «… the blue. It matches perfectly with the dream. Not just the colour itself, but the feeling around it. That look on her face» (94). В словах Жан-Поля дается искусствоведческое объяснение эффекта голубого цвета (ляпис-лазури) на картинах художников Возрождения: «…the blue of the Renaissance. You know there is lapis lazuli in this blue. It was so expensive they could only use it for important things like the Vir- gin’s robe» (94). Но это объяснение не удовлетворяет Эллу, она пытается доказать свое родство с художником Николя Турнье (1590–1639), чье имя и годы жизни обозначены на обороте почтовой карточки.
Список литературы Экфрастический дискурс в романе Трейси Шевалье «Дева в голубом»
- Бочкарева Н.С. Образы произведений визуальных искусств в литературе (на материале художественной прозы первой половины XIX в.): автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1996. 22 с.
- Бочкарева Н.С. Функции живописного экфрасиса в романе Грегори Норминтона «Корабль дураков»//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2009. Вып.6. С.81-92.
- Бочкарева Н.С., Дарененкова В.С. Мотив красного цвета в рассказе А.С.Байетт «Иаиль»//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2009. Вып. 4. С.69-75.
- Гасумова И., Бочкарева Н.С. Экфрастический дискурс в романе Трейси Шевалье «Девушка с жемчужной сережкой»//Мировая литература в контексте культуры. Пермь, 2008. C.150-154.
- Геллер Л. Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе//Экфрасис в русской литературе: труды Лозаннского симпозиума/под ред. Л.Геллера М.: МИК, 2002. С.5-22.
- Гете И.В. К учению о свете (хроматика)/пер. с нем. И.И.Канаева//Гете И.В. Избр. соч. по естествознанию. М.: АН CCCР, 1957. С.261-358.
- Дарененкова В.С. Мотив черного цвета в рассказе А.С.Байетт «Существо в лесу»//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 4(10). С.191-201.
- Дин Э. Знаменитые женщины Библии/пер. с англ. А.И.Блейз. М.: КРОН-ПРЕСС, 1995. 336 с.
- Дмитриева Н.А. Изображение и слово. М.: Искусство, 1962. С.22-26.
- Кандинский В.В. О духовном в искусстве. Л.: Ленингр. галерея, 1990. 67 с.
- Пастуро М. Синий. История цвета. Фрагменты книги/пер. с фр. Н.Кулиш//Иностр. лит., 2010. № 4. С.239-297.
- Рубинс М. Пластическая радость красоты. Экфрасис в творчестве акмеистов и европейская традиция. СПб.: Акад. проект, 2003. 354 c.
- Турчин В. Символика цвета//Юный художник. 1991. №7. С.36-42.
- Чернова А. «…Все краски мира, кроме желтой»: Опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. М.: Искусство, 1987. 220 с.
- Шевалье Т. Дева в голубом/пер. с англ. Н.Сафьянова. М.: Эксмо, 2008. 384 с.
- Chevalier T. The Virgin Blue. London: Harper Collins Publishers, 2002. 320 p.
- Heffernan J.A.W. Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2004. 257 p.