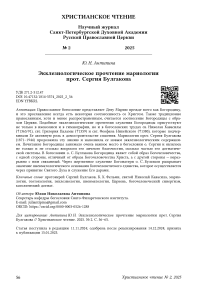Экклезиологическое прочтение мариологии прот. Сергия Булгакова
Автор: Ю.Н. Антипина
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теоретическая теология
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
Православное богословие представляет Деву Марию преждевсего как Богородицу, и это прославление всегда есть некоторая соотнесенность со Христом. Также традиционно православным, хотя и менее распространенным, считается соотнесение Богородицы с образом Церкви. Подобные экклезиологические прочтения служения Богородицы присутствуют не только в иконописи и в гимнографии, но и в богословских трудах св. Николая Кавасилы (†1363/91), свт. Григория Паламы (†1359) и свт. Феофана Никейского (†1380), которые подчеркивали Ее активную роль в домостроительстве спасения. Мариология прот. Сергия Булгакова (1871–1944) продолжила эту линию и наполнила ее новым экклезиологическим содержанием. Почитание Богородицы занимало очень важное место в богословии о. Сергия и являлось не только и не столько вопросом его личного благочестия, сколько частью его догматической системы. В богословии о. С. Булгакова Богородица являет собой образ Богочеловечества, с одной стороны, отличный от образа Богочеловечества Христа, а с другой стороны — неразрывно с ним связанный. Через жертвенное служение Богоматери о. С. Булгаков раскрывает значение пневматологического основания богочеловеческого единства, которое осуществляется через принятие Святого Духа и служение Его дарами.
Протоиерей Сергий Булгаков, К. Х. Фельми, святой Николай Кавасила, мариология, теотокология, экклезиология, пневматология, Церковь, богочеловеческий синергизм, католический догмат
Короткий адрес: https://sciup.org/140309598
IDR: 140309598 | УДК: 271.2-312.47 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_2_56
Текст научной статьи Экклезиологическое прочтение мариологии прот. Сергия Булгакова
KHRISTIANSKOYE CHTENIYE [Christian Reading]
Scientific Journal
Saint Petersburg Theological Academy Russian Orthodox Church
No.2
Yulia N. Antipina
Ecclesiological Interpretation of Mariology of Archpriest Sergius Bulgakov
B^B Ж^ B@S
UDK 271.2-312.47
EDN YFBKRL
На Всемирной христианской конференции «Вера и церковное устройство» («Faith and Order»), проходившей в Лозанне (Швейцария) с 3 по 21 августа 1927 г. — одной из первых конференций, положивших начало экуменическому движению, прот. Сергий Булгаков (1871–1944) заявил, что почитание Богоматери является условием для обретения церковного единства. Это вызвало возмущение со стороны председательствующего на конференции д-ра Гарвика, который «остановил его, указав, что это не на тему, а когда о. Булгаков стал возражать председательствующему, д-р Garvic указал о. Булгакову, что время его уже истекло и что поэтому ему следует прервать свою речь» [Арсеньев, 1928, 106]. Несмотря на непонимание, подобные бескомпромиссные выступления о. Сергий продолжал до конца своей жизни (вплоть до конференции в Эдинбурге в 1937 г.1), так как считал, что «существует, несомненно полная противоположность между православием и протестантизмом, который в религиозно-мистическом существе своем весь вырос из загадочного и непостижного нечувствия Богоматери (а далее, естественно, и всех святых). Отсюда — его рационалистическая сухость и роковое разложение: безматерний он оказывается и несыновным, распыляется на отдельные обособившиеся личности. Богоматерь мистически есть Церковь… В протестантских народах должно воскреснуть почитание Богоматери, без этого нет дороги в Церковь» (Булгаков, 1958, 18). Как вспоминает монахиня Елена (Казимирчак-Полонская), «преодолевая все трудности, о. Сергий добился того, что вопрос о почитании Божией Матери был включен в программу обсуждений и, несмотря на преобладание протестантов, по этому вопросу была вынесена резолюция о „высоком уважении, которое должно принадлежать Матери Божией в христианском сознании“» [Елена Казимирчак-Полонская, 2003, 283–284].
Очевидно, что почитание Божией Матери занимало очень важное место в богословии о. Сергия и являлось не только и не столько вопросом его личного благочестия, сколько частью его догматической системы. Он последовательно развивал свою мариологию в «Купине Неопалимой» (1924), в отдельных главах «Утешителя» (1935), в рукописи «Мариология в четвертом Евангелии»2, а также в многочисленных проповедях на Рождество Христово, Благовещение, Введение во Храм, Успение и Покров Пресвятой Богородицы3.
Напомним, что «мариоло́гией» называют раздел догматического богословия в католической теологии, посвященный почитанию Пресвятой Девы Марии и изучению Ее личной роли в истории спасения (см.: [Schmaus, 2004, 901–905]). Отличительной чертой католической мариологии является догмат о непорочном зачатии Богородицы и вытекающая из него традиция почитания Ее особой святости как освобожденности от первородного греха прямым Божественным вмешательством. Чтобы подчеркнуть различие католического и православного догматического учения о Богоматери, можно сказать, что католической мариологии противопоставлена православная теотокология4, которая входит в состав христологии. Как это следует из названия, теотокология прославляет Марию прежде всего как Богородицу, и это прославление всегда есть некоторая соотнесенность со Христом. Соответствующий раздел своей книги «Введение в современное православное богословие» видный богослов проф. К. Х. Фельми (диакон Василий, 1938–2023) назвал «Мариология как теотоколо-гия». Именно соотнесенностью со Христом Фельми объясняет те похвалы и титулы Богородице, которые так привычны слуху православного человека, но инославному христианину часто кажутся преувеличенными, затмевающими славу Христа и поэтому — искусительными. Фельми утверждает, что недоразумения снимаются, если подобные молитвы «понимать не „мариологически“, а „теотокологически“» [Фельми, 2014, 144]. Поскольку и в богослужебной гимнографии, и в иконописи «в связи с Ней речь всегда идет о Боге в Ней… граница между гимном в честь Христа и похвалой Богородице оказывается подвижной» [Фельми, 2014, 138], соответственно, честь и похвалы, принадлежащие Христу, переносятся на Богоматерь5.
С другой стороны, нельзя согласиться с тем, что мариологическая линия совсем не представлена в православии, если под православной мариологией подразумевать почитание Богоматери, выходящее за пределы теотокологии. Например, традиционно православным считается соотнесение Богородицы с образом Церкви, и подобные экклезиологические соотнесения присутствуют как в иконописи, так и в православной гимнографии6, хотя в целом, как отмечает К. Х. Фельми, экклезиологическая символика в почитании Богоматери отнесена на второй план (см.: [Фельми, 2014, 142]). Экклезиологическое прочтение служения Богородицы было не очень широко распространено в православном богословии, но очевидно прослеживается в трудах св. Николая Кавасилы (†1363/91), свт. Григория Паламы (†1359) и свт. Феофана Никейского (†1380), которые, по мнению Фельми, вышли за пределы «чисто теотокологических суждений... и подчеркнули личную святость Богородицы, Ее активную роль в домостроительстве спасения, а также Ее связь с учением о Церкви» [Фельми, 2014, 144].
Можно проследить, как выстраивает линию домостроительства спасения в своих богородичных гомилиях св. Николай Кавасила. Прославление Богоматери он начинает с воспоминания пути, пройденного человечеством с момента грехопадения до дарования закона, и подчеркивает, что не только сама Богоматерь, но в Ее лице все человечество принесло плод своего усердия и стремления жить по-Божески. В Богоматери «человек со многим преизбытком явил на деле способность бороться со грехом» [Николай Кавасила, 2007в, 340] и «человеческая природа явилась тем, чем она была, дабы принести Создателю подобающую честь и славу» [Николай Кавасила, 2007в, 339]. Таким образом, Дева стала наследницей той святости, которая была обретена всем человечеством, и, не отделяя Себя от человечества, «явила людей достойными жительства с Богом» [Николай Кавасила, 2007а, 366]. Далее богослов прославляет Ее личный подвиг, состоявший в том, что непорочной и святой жизнью Дева «осуществила то, что привлекло Творца на землю и подвигло созидающую руку. <...> Она обратила к Себе взор Божий» [Николай Кавасила, 2007б, 346-347]. Она «заключила с Богом мир» [Николай Кавасила, 2007б, 347], «и поверила, и вняла, и приняла на Себя служение» [Николай Кавасила, 2007б, 349], «стала помощницей Создателю и соработницей Художнику» [Николай Кавасила, 2007в, 342], «не просто соучаствовала. но, будучи привлеченной к делу домостроительства, Сама принесла Саму Себя и стала соработницей Богу в промышлении о роде человеческом» [Николай Кавасила, 2007б, 350]. И далее, «она стала соучастницей Сыну» [Николай Кавасила, 2007а, 377] в Его земном служении. Таким образом, Богородица воплотила готовность человечества к синергии, к человеческому содействию Богу-Творцу, а значит — «всем стало доступно подлинное человечество» [Николай Кавасила, 2007в, 343], была достигнута цель творения. Она явилась «пу-теводительницей для всякой души и всякого разума к достижению Божественной истины» [Николай Кавасила, 2007а, 364].
Очевидно, что если католическая мариология в истории спасения делает акцент на чудесном и автономном произволении Бога, никак не опосредованном волей человека, то православная мариология подчеркивает не только обоюдное стремление Бога и человека навстречу друг другу, но также способность человека осуществить свой шаг навстречу Богу. Согласно католической доктрине, Дева Мария смогла принять Бога только потому, что была освобождена от действия первородного греха. Согласно православному учению, Она смогла принять Бога вопреки действию первородного греха, от которого не была освобождена, как и все люди, вплоть до Крестной Жертвы Спасителя на Голгофе и усвоения этого спасения в даре Пятидесятницы. Как замечает В. Н. Лосский, Богородица была избрана для исключительного служения, но Ее избрание становится вершиной ряда других избраний, которыми оно было подготовлено, — избрание Богородицы не отделяет Ее от прародителей, но выделяет то лучшее, что у них было (см.: [Лосский, 2001, 165]). Таким образом, православие утверждает, что есть в человеке сила превозмочь действие первородного греха, и что эта способность вынашивалась в человечестве на протяжении тысячелетий, и что это волеизъявление накапливалось из рода в род, и в определенный момент оно воплотилось в Богоматери усилием Ее личного подвига, а значит — что и любой другой человек не лишен этой потенции.
Мариология прот. Сергия Булгакова продолжает развивать эту линию домостроительства спасения и наполнять ее экклезиологическим содержанием настолько, что, перефразируя Фельми, соответствующий раздел булгаковской догматической системы мы могли бы назвать «Мариология как экклезиология».
Протоиерей С. Булгаков определял Церковь как богочеловечество или «богочеловеческий синергизм». Определение Церкви как богочеловечества принадлежит не о. Сергию — он усвоил это понятие от Вл. С. Соловьёва и свящ. Павла Флоренского, но наполнил его собственным уникальным содержанием. Он определял Богочеловечество как « соединение начал Божеского и тварного, нераздельное и не-слиянное их взаимопроникновение... практически синергизм, подаяние Божественных даров и принятие их» (Булгаков, 2005б, 283). Таким образом, в определении Церкви о. Сергий подчеркивал содействие Бога и человека.
Богочеловеческий синергизм в богословии о. Сергия Булгакова имеет не только христологическое, но и пневматологическое основание. Это ново, так как под бого-человечеством обычно подразумевается боговоплощение, соединение Божественной и человеческой природы во Христе. Если Христос стал Богочеловеком ипостасно, то Богородица через наитие Святого Духа, совершившееся по Благовещении, также являет собой богочеловечество, хотя и не ипостасное: «Боговоплощение не только единожды совершилось… Оно пребывает не только в Нем, но и в отношении к Ней, как соединение двух естеств. согласно халкидонскому определению. Последнее раскрывает догмат лишь христологически, однако в нем подразумевается и марио-логическое содержание» (Булгаков, 2005а, 91–92). Согласно о. Сергию, получается, что пневматология также имеет непосредственное отношение к боговоплощению. Богородица в Своем богочеловечестве «есть хотя и не воплощение, но человеческое явление Святого Духа» (Булгаков, 2005а, 108), она есть «Духоносица… соединение двух природ, Божеской и человеческой, хотя не ипостасное» (Булгаков, 2005а, 96). Называя Богоматерь Духоносицей, Булгаков в качестве приоритета ставит духовную святость Богородицы, перенося акцент с Ее телесной святости: «„Воистину Богороди-цей“ Мария стала не потому, что Она телесно понесла во чреве; это и совершилось-то вследствие того, что Она в Своем духе соединилась с Духом Св., и поэтому стала Богоматерью» (Булгаков, 1927, 156).
Утверждение о богочеловечестве Богородицы может показаться спорным, однако его можно соотнести с традиционно православным понятием «обόжения» человека, благодаря которому «человеческое естество, будучи тварным и ограниченным, способно воспринимать Божественную силу и обретать единство с Богом, не исчезая в Нем» [Леонов, 2021, 263]. Именно такую способность к восприятию Божественной силы о. Сергий называл «богочеловеческой синергией», а обретенное единство с Богом — богочеловечеством. Учение об обожении человека широко представлено в церковной традиции. Например, прп. Иоанн Дамаскин учил, что обо-жение не делает человека Богом по существу, но постепенно изменяет способ его существования: «В силу свойственного человеку тяготения к Богу Он сотворил человека — что составляет предел тайне — превращающимся в бога по причастию к Божественному озарению, но не переходящим в Божественную сущность» (Ioan. Damasc. De fide orth. II 12). В согласии со свв. отцами прот. С. Булгаков утверждал, что основанием для обόжения является Боговоплощение и искупительный подвиг Христа, а совершение обожения происходит через благодатное соединение со Христом в принятии Св. Даров за Евхаристией. И вслед за свт. Василием Великим (Basil. Magn. De Spirit. Sanct. 9) о. Сергий также подчеркивал особое значение Св. Духа для обожения человека, которое в полноте было раскрыто в богословии свт. Григория Паламы: «Человек причащается не Сущности Божией, а нетварной, вечной, и боготворящей благодати Духа» (PG. 151. Col. 680). Слова прп. Серафима Саровского о стяжании Св. Духа как цели христианской жизни прот. С. Булгаков не раз упоминал в своих произведениях.
В своих мариологических размышлениях В. Н. Лосский поддерживал идею обо-жения благодатью Святого Духа и утверждал, что Богоматерь уже здесь, на земле, по благодати достигла всего того, чем Сын Ее обладал по Своей Божественной природе, что «рядом с нетварной Божественной Ипостасью стоит обоженная человеческая ипостась», и это свершившееся в полноте обόжение «ставит Ее по ту сторону смерти, Воскресения и Страшного Суда», вследствие чего Богородица «разделяет славу Своего Сына, царствует вместе с Ним, рядом с Ним правит судьбами Церкви и мира, развивающимися во времени» [Лосский, 2001, 170–171]. Таким образом, Богочеловечество Богородицы следует понимать как совершенно обоженную человеческую ипостась.
Предвидя всю проблематичность постановки вопроса о богочеловечестве христиан — «теологи будут возражать с испугом, что только Иисус Христос был Богочеловеком, человек же есть тварное существо и не может быть богочеловеком» [Бердяев, 2024, 55], — Н. А. Бердяев, также как и о. С. Булгаков, отличал богочеловечество человека от богочеловечества Единственного Богочеловека Иисуса Христа. Называя обретение богочеловечества «опытом трансцендирования», «переживанием пропасти и преодолением пропасти» [Бердяев, 2024, 56], он относил опыт обожения не столько к сфере аскетики, сколько к сфере экзистенциальной свободы и творчества.
Сослужение Богородицы Богу не сводится только к событию рождения Христа. Разделяя земной путь Христа, соучаствуя в Его проповеди, Она соучаствует в Его жертве — здесь напомним, что Булгаков не сводил жертву Христову исключительно к Голгофским страданиям, но весь путь земного служения Христа называл жертво-приношением7. Это позволило У. Роуэну утверждать, что в кенотическом богословии о. Сергия «Голгофа становится только временным символом вечной реальности» [Роуэн, 2009, 63]. Подобным же образом Богоматеринство Богородицы выходит за пределы события Рождества Христова и приобретает значение метафизического процесса, который нарастает по мере приближения к Голгофе и исполняется у подножия креста8. Разделяя страдания Христа — «Ее душу пронзает меч», через слова Христа «Се матерь твоя», обращенные к любимому ученику, Богоматерь усыновляет ап. Иоанна, а через него — всех христиан. Булгаков считает, что «эти слова означают как бы посвящение Марии в сан Церкви, чрез таинственное призвание Святого Духа, первоначально сошедшего на Нее в Благовещении как на Богоматерь, а ныне совершающего Ее оцерковление, — таинство всецерковного богоматеринства» (Булгаков, 1982, 54) и что «усыновление Иоанна Богоматери является прежде всего лично к нему относящимся, как к первому в любви Христовой, но оно, конечно, распространяется вместе с ним и на всех, любящих Христа и верующих в Него» (Булгаков, 1982, 55). Так «Матерь Христова становится Матерью церковною» (Булгаков, 1982, 55) и «матерью всего человечества» (Булгаков, 1952, 6).
В отличие от утверждения католического догмата9, по мнению о. Сергия, Богородица даже во время Своего сослужения Христу продолжает нести на Себе последствия первородного греха, поэтому, как и все, нуждается в усвоении спасительной жертвы Христа: «Пятидесятница явилась завершительным освящением Ее человеческого естества от всяких последствий и остатков первородного греха и сообщением Ей искупительной силы Христовой» (Булгаков, 1927, 179). В Успении Ее Богочеловечество исполняется совершенным образом: «С воскрешением и вознесением Богоматери мир завершен в своем творении, цель мира достигнута… ибо Богоматерь есть уже этот прославленный мир, который обожен и открыт приятию Божества… Она есть уже совершенно и до конца обоженная тварь, богорождающая, богоносящая, бого-приемлющая» (Булгаков, 1927, 128), «Она в Себе подъемлет, возвышает к Богу человечество и всю тварь» (Булгаков, 1927, 132). Как совершенное творение, Богородица первая из человеческого рода воплотила в Себе софийную связь мира со Творцом10, и не просто явила в Себе эту связь как однократный акт, но навсегда пребывает Сама этой связью до конца времен и второго пришествия Христа: «Пребывая на небе… все же не отделяется от нашего тварного мира… как совершенно обоженное творение, „лествица к небеси“. <…> Эта связь Ее с миром во успении и его неоставление есть некий молчаливый, таинственный, но незыблемый догмат церковного Ее почитания» (Булгаков, 1952, 6). Отец С. Булгаков считал, что Богоматерь, «как сердце и средоточие Церкви, ее личное начало» (Булгаков, 1982, 54), для всех христиан является образом совершенного софийного богочеловечества — Церкви, а значит — образом личного призвания, обращенного к каждому. Именование Богоматери «Неопалимой Купиной» свое основание находит в видении пророком Моисеем горевшего, но не сгоравшего куста (слав. «купины»), где сам куст выступает в качестве прообраза одновременно материнства и девства Божией Матери (Исх 3:2). Экклезиологическое прочтение «Неопалимой Купины» адресует нас к Пятидесятнице, когда Дух Святой сходит на Церковь, и доныне Церковь пламенеет Духом Святым, но не сгорает. Так, все христиане, участвующие в Евхаристии, которая есть боговоплощение11, причащаясь Телу и Крови Христовым, ими соединяются со Христом. Таким же образом все христиане по образу Богородицы призваны стать духоносцами, принимая Духа Святого и тем самым исполняя богочеловеческое единство.
Соглашаясь с о. С. Булгаковым в основных положениях его мариологии — участие Богородицы в Крестной Жертве Спасителя, расширение понятия девства до «особого внутреннего мирочувствия» [Флоровский, 1998, 176-177], не отрицающего физического девства, но превосходящего его, способность противостоять соблазнам и вследствие этого отсутствие личного греха, а также Ее Материнство по отношению ко всему христианскому роду (см.: [Флоровский, 1998, 180]), — прот. Г. Флоровский соглашался также с тем, что для Богородицы «уже наступило то, что только предстоит человечеству… и это необходимое следствие Ее служения» [Флоровский, 1998, 179]. Однако для о. Г. Флоровского догмат о почитании Богородицы существовал исключительно в христологическом контексте, и такая исключительная христоцентричность в целом характерна для экклезиологического подхода о. Г. Флоровского (см.: [Добро-творский, 2023, 132]). Соответственно, потерю чувствительности к мариологической тематике со стороны протестантов о. Георгий объяснял догматическим повреждением, а именно «усеченной христологией»: «Не замечать Матери — значит не понимать Сына» [Флоровский, 1998, 166]. В этом состоит некоторое различие акцентов, которые о. Сергий и о. Георгий делали в своем стремлении донести до протестантов православное учение о Богородице.
В отличие от прот. Г. Флоровского В. Н. Лосский вслед за о. С. Булгаковым подчеркивал «ярко выраженный пневматологический характер» догмата о Богоматери, как и то, что этот догмат «благодаря двойному домостроительству Сына и Святого Духа неразрывно связан со всей экклезиологической реальностью» [Лосский, 2001, 156]. Если соборные определения, как напоминал Лосский, указывали только на именование ©Еотокод (Богородица), но не раскрывали его значения, то в русле церковного Предания, богослужения и опыта благочестия нарастало церковное почитание и прославление Богородицы, т. е. сама «жизнь питала догмат живым опытом Церкви» [Лосский, 2001, 157]. Соответственно, по мнению В. Н. Лосского, чуждыми почитания Матери Божией остаются те христианские (протестантские) общины, которые отвергают Предание как живой опыт Церкви.
Заключение
В учении о Богоматери широко распространенный в православной теотоколо-гии христологический аспект Ее служения прот. Сергий Булгаков дополняет пнев-матологическим аспектом, находящимся в русле православного Предания, но не так широко известным в русском богословии к нач. ХХ в. Отец Сергий представляет Богоматерь как вершину синергии Бога и человека, образ совершенного обоже-ния, цель творения, что, в его понимании, образует экклезиологическую полноту православной мариологии. Отказывая Богородице в почитании и умаляя Ее жертвенное служение, протестанты, по мнению о. Сергия, отрицают Божественную составляющую Богочеловеческой синергии — благодатное спасительное собирание Церкви Духом Святым в полноту церковного единства. В свою очередь католики, провозглашая догмат об отсутствии первородного греха у Богородицы, отрицают человеческую составляющую Богочеловеческой синергии — способность человека устремиться навстречу Богу и разделить крестное служение Спасителя. И только православные, по мнению прот. С. Булгакова, утверждают веру в Бога и человека, верно исповедуя богочеловечество Богородицы, исполнившееся в Ее ипостас-ной свободе (по Ее человеческому волеизъявлению) чрез принятие благодатных даров Св. Духа и голгофской жертвы Христа. Богородица является Матерью Церкви, так как обожение Богородицы является образом действия для каждого христианина, призванного к осуществлению в своей жизни Богочеловеческой синергии — через причащение Христу в Евхаристии и через причащение Духу Святому в принятии и служении Его дарами. Так через богословские труды о. С. Булгакова экклезиология дополняется пневматологическим и антропологическим аспектами, которые наряду с утвердившимся христологическим все вместе составляют полноту представления о Церкви как Богочеловечестве.