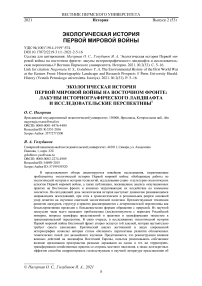Экологическая история первой мировой войны на восточном фронте: лакуны историографического ландшафта и исследовательские перспективы
Автор: Нагорная О.С., Голубинов Я.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Экологическая история первой мировой войны
Статья в выпуске: 2 (53), 2021 года.
Бесплатный доступ
В представляемом обзоре анализируются новейшие исследования, затрагивающие проблематику экологической истории Первой мировой войны: обобщающие работы по экологической истории и истории технологий, исследования социо- и культурно-экологических аспектов Первой мировой войны, а также публикации, посвященные анализу оккупационных практик на Восточном фронте и косвенно затрагивающие их воздействие на изменение экосистем. На сегодняшний день экологическая история выступает динамично развивающимся направлением исследований, при этом в хронологическом и региональном разрезе основной упор делается на изучении советской экологической политики. Предшествующие тенденции развития дискурсов, структур и практик рассматриваются с детерминистской перспективы как безальтернативная прелюдия к большевистским формам обращения с природой. Из научной дискуссии чаще всего выпадают проблематика (дис)континуитета с периодом Российской империи, вопросы трансфера представлений и практики и трансформации экосистем в транснациональной перспективе. В свою очередь, в исследованиях экологической истории Первой мировой войны Восточный фронт упорно остается той лакуной, которая настоятельно требует своего заполнения. Критический анализ достижений и лакун современной историографии позволил авторам статьи обозначить перспективы развития обозначенных тематических полей для дальнейшего изучения. Представляется, что реконструкция влияния военных действий на ландшафты Восточной Европы, попыток реализовывать собственное видение организации пространства разными державами на одних и тех же территориях, трансформации хозяйственных практик со стороны местного населения, а также долгосрочных эффектов способна скорректировать господствующие в научной литературе представления об универсальности процессов и явлений, имевших место на Западном фронте или в колониях западноевропейских стран.
Экологическая история, первая мировая война, восточный фронт, ландшафты, окружающая среда, оккупационные практики, гражданское население
Короткий адрес: https://sciup.org/147246368
IDR: 147246368 | УДК: 94(100)"1914-1919":574 | DOI: 10.17072/2219-3111-2021-2-5-16
Текст научной статьи Экологическая история первой мировой войны на восточном фронте: лакуны историографического ландшафта и исследовательские перспективы
На сегодняшний день экологическая история представляет собой динамично развивающееся направление историографии, в рамках которого происходят интенсивные процессы институционализации, оживленные дискуссии по поводу концептуальных оснований, поиски однозначного исследовательского инструментария. Хронологический акцент большинства работ приходится на XIX–XX вв. – период интенсификации промышленного воздействия на окружающую среду, время технологических катастроф и развития массовых экологических движений. Первая мировая война выступает в этих длительных трендах важной цезурой, с одной стороны, ускорившей заложенные в предыдущую эпоху тенденции, с другой – послужившей катализатором трансформации экосистем и зарождения новых практик обращения человека с природой.
В представляемом обзоре охарактеризованы три историографических блока в рамках экологической истории Первой мировой войны: обобщающие работы по экологической истории и истории технологий, исследования социо- и культурно-экологических аспектов Первой мировой войны, а также публикации, посвященные анализу оккупационных практик на Восточном фронте Первой мировой войны и косвенно затрагивающие их воздействие на изменение экосистем. Критический анализ достижений и лакун современной историографии позволил авторам статьи обозначить перспективы развития данных тематических полей для дальнейшего изучения.
Первая мировая война в длительных трендах экологической истории человечества
Исходным посылом экологической истории является изучение природного мира не просто в качестве фона, на котором разворачиваются события истории человеческой, а в качестве динамической силы, соучаствующей в процессах созидания и развития [Человек и природа, 2008; Радкау , 2014]. Второе ключевое положение данного историографического направления – помещение природы в ряд культурно-антропологических конструктов, включающих в себя представления о ландшафтах и животном мире, практики использования природных ресурсов человеком, взаимодействие природы и общества, философию природы [ Bruno , 2007, p. 635–650]. Двойственное концептуальное основание и обширный спектр тематических полей экологической истории необратимо приводят к размыванию ее предмета и методологического инструментария: достаточно часто под ее названием публикуются работы в русле экономической, социальной или политической истории. Отмеченная уязвимость методологических оснований с недавнего времени является предметом исследовательской рефлексии и поводом для дальнейших концептуальных поисков: к примеру, Ю. Херцберг, критикующая механический перенос концепций политической истории на экологическое измерение, видит выход в отходе от государственной и антропоцентрической перспективы анализа и в более пристальном внимании к региональному измерению [ Herzberg , 2013, p. 7–31; Нагорная, Никонова , 2016, с. 162–165].
В целом, обобщающие работы концентрируются не только на региональной, но и на глобальной перспективе и пытаются реконструировать длительные тренды взаимодействия человека с разными типами экосистем и природных ресурсов: лесом, степью, водой [ McNeill , 2004, p. 388–410; Finstad, Lajus , 2012, p. 226–237]. Первая мировая война здесь выступает лишь иллюстрацией отдельных феноменов или longue durée. К примеру, Д. Мун, реконструирующий глобальную историю степного пространства, отмечает, что именно в ходе Первой мировой войны были серьезно нарушены агрикультуры степей регионов России. По его оценкам, падению аграрного производства способствовали и блокада черноморских и балтийских портов со стороны противников, и массовая мобилизация мужчин и лошадей из сельских районов на военные цели. Кроме того, милитаризация экономики в целом разрушила устойчивые торговые связи между сельскими производителями и индустриальным сектором, что привело к сокращению площадей посевов [ Moon , 2014, с. 25] и, возможно, к изменению облика степных ландшафтов.
П. Котс, изучающий военизированные ландшафты и приграничные зоны периода Холодной войны и современности, описывает «ничейную землю» («No-Man’s Land»), которая отделила друг от друга противников на Западном фронте Первой мировой войны, в качестве своеобразной антиномии демилитаризованных зон второй половины ХХ в. Само это словосочетание использовалось в Средние века как юридический термин и возродилось в сленге британских солдат в годы Первой мировой войны как метафора отсутствия признаков жизни и воплощения тысячи признаков смерти [ Bull , 2015]. Изуродованные военные ландшафты Западного фронта выступают для автора противоположностью очищенным от присутствия человека приграничным областям разделенных государств, на которых удивительным образом процветает разнообразие флоры и фауны [ Coates , 2014, р. 499–516].
В объемном труде «Экологическая история России» Первая мировая война рассматривается сквозь призму институционального взаимодействия российских властей и экспертного сообщества: начало военных действий послужило толчком к инициированному сверху созданию новых отраслевых комиссий по оценке естественных ресурсов, по изучению ядовитых газов. Прекращение притока иностранных технологий вследствие утраты контактов с Германией и блокады морских путей привело к признанию зависимости национальной промышленности и науки, а также к интенсивному поиску новых ресурсов (освоению Арктического региона) и достаточно хаотичному выстраиванию инфраструктуры, в том числе в прифронтовых областях. Тем не менее, по мнению авторов, представители власти не смогли преодолеть своего недоверия к либеральным ученым. В свою очередь, в академических структурах интерес к вопросам окружающей среды был достаточно слабым: освоению природных ресурсов большинство ученых приписывали прежде всего экономическую и этатистскую ценность [ Josephson , 2013, р. 58]. Концентрация авторов книги на институциональном измерении государственной ресурсной политики и экспертных сообществах исключает из их поля зрения вопросы влияния военных действий на окружающую среду, практики обращения населения с природой, конкурирующие стратегии освоения природных ресурсов на оккупированных территориях, проблематику трансформации военных ландшафтов.
Воздействие войны на земное пространство и наполняющие его естественные и искусственные элементы, конечно, было и до, и после Первой мировой войны (чтобы избежать путаницы, Д. Брэнтц предлагает различать термины «окружающая среда» (environment) и «ландшафт» (landscape), видя в них как различные комбинации этих элементов, так и разные социальные практики обращения с ними [ Brantz , 2009, р. 68–91]). Последняя оказывается лишь одним из эпизодов долгого процесса изменения облика планеты вследствие вооруженных конфликтов в Новое время. В сборниках статей «Война и окружающая среда: военные разрушения в современную эпоху» [War and the Environment…, 2009] и «Природный противник, природный союзник: перспективы экологической истории вооруженных конфликтов» [Natural Enemy…, 2004] влияние Первой мировой войны на взаимоотношение общества и природы исследуется применительно как к некоторым территориям (например, Центральная Индия, Филиппины, европейские страны), так и к отдельным способам этих взаимоотношений (вырубка леса по всему миру, китобойный промысел, применение пестицидов и инсектицидов в сельском хозяйстве и т.д.). В данных работах Первая мировая война оказывается вписана в более широкие хронологические и географические рамки, что, во-первых, еще раз подтверждает ее глобальный характер, и, во-вторых, позволяет увидеть связь с весьма отдаленными во времени и пространстве процессами, которые тем не менее оказываются порождениями этого военного конфликта.
Особым тематическим полем в данной группе исследований выступают вопросы загрязнения окружающей среды непосредственно в ходе военных действий. Основные тенденции описаны в монографии Р. Г. Мамина, который выявляет несколько новых характеристик Первой мировой войны, вызвавших деградацию экологических систем на территории стран-участниц. Во-первых, это опыт применения химического оружия, последствия которого, по словам автора, не были оценены ни в натуральных показателях, ни в денежном выражении. Только в Российской империи каждый седьмой снаряд был начинен отравляющими химическими веществами, при этом стоит учесть, что старая русская армия отнюдь не являлась лидером тогдашней гонки вооружений. Во-вторых, это загрязнение почвы жидким топливом и горюче-смазочными материалами в местах действия больших масс военной техники. В-третьих, это огромное количество медицинских отходов, попавших в окружающую среду: лекарства, средства дезинфекции, перевязочные средства, ампутированные конечности комбатантов, особенно если на конкретной местности располагалась воинская часть или госпиталь. В качестве отложенных последствий, по мнению автора, следует оценивать перенос военных технологий на последующие практики обращения с природой, включающие экспансию экологотехнологических комплексов [Мамин, 2011].
Проблематика экологии войны косвенно затрагивается в работах, посвященных развитию военных технологий. Д. Байрау констатирует, что именно в период Первой мировой войны произошли милитаризация науки и резкая национализация исследований. Стремление к тотальной мобилизации ресурсов и их ограниченность в условиях разрушения устойчивых экономических связей привели к разработке и внедрению заменителей различных материалов и веществ, к интенсификации поисков источников сырьевых ресурсов, в том числе за счет оккупированных территорий. Спецификой российской ситуации, по мнению автора, стало запоздалое и потому поспешное развитие органов планирования и распределения, в состав которых вошли и экспертные отделы. В большей степени эффектами этой институциональной перестройки воспользовались пришедшие к власти большевики [ Байрау , 2007, с. 25–32].
Ландшафты Первой мировой войны: опыт Западного фронта
Вторая группа исследований представлена конкретными кейсами по экологической истории Первой мировой войны, включая вопросы уничтожения природных ресурсов, утилизации амуниции и рекультивации территорий, а также трансформации образов ландшафтов под влиянием военных действий и в послевоенный период.
Оценивая масштабы экологических потерь С. Лэниер-Грэхам обозначает Первую мировую войну в качестве поворотного момента развития военных действий. Традиционно для существующей историографии автор уделяет основное внимание Западному фронту, утверждая, что наибольшие экологические потери в ходе войны понесла Франция, а также США, чьи природные ресурсы были уничтожены во имя обеспечения армий союзников. Тема Восточного фронта затрагивается в данной работе в виде исключения, к примеру, упоминается уничтожение лесов прежде всего немецкими оккупационными властями в Польше [ Lanier-Graham , 1993, р. 18–21]. Однако подобные частные примеры не вписываются автором в общий контекст происходящего.
Т. Келлер в энциклопедической статье «Разрушение экосистемы» (Destruction of the Ecosystem) отмечает, что военные действия Первой мировой войны изменили экологические системы на всех фронтах, а природа оказалась основной жертвой удара первой индустриальной войны. При этом оценка происходящего как природной катастрофы преобладала в восприятии романтиков с университетским образованием, но отнюдь не представителей рабочих социальных групп, привыкших к насильственной трансформации природных ресурсов со стороны человека и интенсивно участвовавших в ней еще до войны. Как и его предшественники, Келлер концентрируется на разрушительном воздействии военных действий на окружающую среду стран-участниц сражений на Западном фронте. С одной стороны, автор отмечает, что в ходе Первой мировой войны проявились тенденции экологического развития, связанные с процессами индустриализации и заложенные еще в предыдущем веке. С другой – война способствовала ускоренной индустриальной трансформации экосистем: строительству железных дорог и укреплений, возведению тоннелей и электростанций, разработке источников сырьевых ресурсов. Несмотря на то что восстановление разрушенных ландшафтов после войны происходило удивительно быстро, более важными, по мнению автора, явились именно долгосрочные экологические эффекты, проявившиеся в изменении практик обращения государств и частных фирм с природными ресурсами: в «распространении промышленных методов производства, препятствующих природным процессам, нарушающих экологический баланс на местах и усиливавших эксплуатацию людей во всем мире» [ Keller , 2014]. Красной нитью в статье проходит мысль о том, что основные катастрофические последствия для местных экосистем война спровоцировала на европейской периферии – в колониальных владениях и на оккупированных территориях. Иллюстрацией этого тезиса для Восточного фронта являются упомянутый выше пример сокращения лесных ландшафтов в Литве и Белоруссии вследствие массовых заготовок леса немецкими оккупационными войсками [Там же].
Исходным тезисом редакторов сборника «Экологическая история Первой мировой войны» (Environmental Histories of the First World War) является констатация несоразмерности экологических последствий Первой мировой войны и недостаточного внимания, которое историческая наука до сих пор уделяла этому вопросу. Для восполнения существующего дисбаланса, а также для продуктивной реконструкции сложных процессов и их длительности, по их мнению, необходимо прежде всего расширение хронологических рамок за пределы непосредственных военных действий. Наиболее последовательно реализовать этот призыв удалось Г. Фицже-ральду, статья которого посвящена экологическим аспектам строительства и эксплуатации фабрики по производству газового оружия в США. Отсутствие опыта обращения с отходами подобных производств, по мнению автора, повлекло за собой катастрофические последствия и для рабочих данного предприятия, и для окружающей среды в целом. Отдельный раздел данного сборника посвящен неевропейским ландшафтам, в частности, последствиям мобилизации ресурсов для азиатских и африканских регионов [Environmental Histories…, 2018]. Специфика Восточного фронта (уже традиционно) не нашла отражения ни в одной из статей данного издания. Возможно, поэтому редакторы отказались в названии от формирующего единую картину понятия «экологическая история» в пользу множества историй, подчеркнув открытость историографического ландшафта для освоения новых тематических полей.
Первый глобальный опыт использования химического оружия в годы Первой мировой войны привел к возникновению масштабной проблемы утилизации отходов. Национальные и территориальные стратегии ее решения в странах Западного фронта привлекают неослабевающее внимание современных исследователей [ Clout , 1996; Zanders , 1997, р. 197–230; Russell , 2001; Hubé , 2017]. Это обусловлено в том числе удивительной актуальностью вопроса: даже через сто лет после окончания военных действий на территориях бывших сражений, в местах складирования, захоронения и переработки оружия встречаются случаи детонации снарядов и загрязнения окружающей среды. В силу разрозненности источников и сложности вычленения Первой мировой войны из контекста последовавших за ней гражданских войн и локальных конфликтов межвоенного периода данная проблематика в странах-наследницах Восточного фронта является слабо разработанной [ Bonhomme , 2018].
Ключевой работой о ландшафтах Первой мировой войны на сегодняшний день является опубликованный по итогам конференции одноименный сборник Landscapes of the First World War. В вводной статье редакторы сборника подчеркивают определяющую роль ландшафтов Великой войны для солдатского опыта, который был сформирован под влиянием местностей – ледников, пустынь, лесов. При этом речь идет не только о местах битв, но и о прифронтовых и тыловых пространствах, где в условиях дефицита сырья и других ресурсов возникали новые ландшафты, а также трансформировалось отношение к ним местных жителей. В связи с тем что ландшафты лишь недавно стали предметом междисциплинарных исследований как связующее звено между материальным миром и человеческой интерпретацией, одним из открытых вопросов остается определение границ этого множественного явления. Будучи антропоцентрической идеей, оно вбирает в себя все физические изменения, сотворенные человеком, а также культурные верования и практики, которые проецируются на данную местность. Вопреки обыденным представлениям о незыблемости неживой природы, изучение ландшафтов должно исходить из предположения об их изменчивом характере [ Daly, Salvante, Wilcox , 2018; Schama , 1995]. К сожалению, характерным для данного сборника является видимое расхождение между концептуальными положениями, заявленными в вводной статье, и их воплощением авторами отдельных статей.
В статье С. Камарда, посвященной, скорее, не экологической истории, а традиции восприятия и визуализации ландшафтов в Люксембурге накануне и в период войны, описывается общая для европейских наций конца XIX в. тенденция поиска национальных символов в региональных пейзажах. Сформированные конструкты сохранили свою действенность в условиях войны и были положены в основу практик цензурирования изображений с фронта. Если визуализация насилия в виде человеческих жертв была недопустима, то виды «израненных» ландшафтов активно использовались средствами военной пропаганды в целях ужесточения образа врага и мобилизации собственного населения на военные цели [ Camarda , 2018, р. 99–117].
-
Н. Саундерс применяет археолого-антропологический подход к исследованию военных ландшафтов Западного и Итальянского фронтов Первой мировой войны. Исходным тезисом ав-
тора является утверждение о множественной трансформации фронтовых территорий: за четыре года боевых действий они прошли несколько стадий технологического конструирования. К примеру, сельскохозяйственные ландшафты из источника поддерживающей жизнь продукции стали фабрикой индустриальной смерти: на почвах, отравленных газовыми атаками, произрастали токсичные деревья, которые использовались в виноделии. Вторичная трансформация ландшафтов началась после окончания войны в целях социального конструирования. Это иллюстрируют дискуссии по вопросу восстановления территорий на Ипре, где конкурировали две концепции: сохранить руины как свидетельство агрессии и память о погибших либо воссоздать все разрушенные объекты в их довоенном великолепии. Наконец современная трансформация ландшафтов связана с популяризацией «боевого туризма» и приобретения местами сражений столетней давности высокого образовательного и эмоционального потенциала [ Saunders , 2018, р. 209–224]. Важным концептуальным замечанием автора выступает тезис о многослойности: один и тот же ландшафт мог быть положен в основу совершенно разных групповых идентичностей.
На фоне концептуально новаторской статьи Саундерса материал А. Коэна о российских (советских) мемориальных ландшафтах Первой мировой войны выглядит повторением уже известных (в том числе и по предыдущим публикациям автора) положений о разнице коммеморативных процессов в большевистской России и эмиграции. Попытка новой советской власти денационализировать пейзажи происходила параллельно со стремлениями русских эмигрантов придать чужой земле значение русской [ Cohen , 2018, p. 173–191]. В данной статье сами ландшафты играют второстепенную роль и выступают, скорее, фоном реконструкции процессов исторической политики и коммуникативной памяти.
Вне рамок данного сборника визуализацию разрушенных ландшафтов Западного фронта в фотографии и кино периода Первой мировой войны анализирует Д. ди Фолко. Он описывает не только брутальную трансформацию природного ландшафта под чудовищным воздействием взаимных артобстрелов немецких и британских войск, но и то шокирующее влияние запечатленных в хронике образов искалеченных ландшафтов на британскую аудиторию, которое, по сути своей, сформировало современную культурную память о битве на Сомме [ Folco di , 2004, p. 261–264]. К анализу Дж. ди Фолко примыкает уже упоминавшаяся выше работа Д. Брэнтц, в которой подчеркивается, что в ходе боевых действий образовалась Schicksalsgemeinschaft, т.е. буквально «общая судьба» человека и природы. Последние хотя и «угрожали друг другу во время ежедневных практик войны, но слились в новое символическое единство, рожденное из их взаимной аннигиляции» [ Brantz , 2009, p. 84].
Историографические дебаты об оккупационных практиках на Восточном фронте
Современные публикации по истории оккупационных политик и практик Центральных держав и Российской империи на Восточном фронте относительно немногочисленны. Пионерской работой в данном тематическом поле стала опубликованная в начале 2000-х гг. монография Г. В. Лилевичуса «Военная земля на Восточном фронте: культура, национальная идентичность и немецкая оккупация в Первую мировую войну» (War Land on the Eastern Front: Culture, National Identity, and German Occupation in World War I). Автор анализирует амбициозные устремления немецких оккупационных властей – администрации Обер Ост – установить тотальный контроль над огромной и разнородной территорией через транспортную политику и обширную культурную программу, которая была нацелена на смену идентичности коренных жителей. При этом освоение ландшафтов означало не просто восстановление разрушенных отступающей русской армией объектов, но полное преобразование их по немецкому образцу. Спектр мероприятий масштабной программы простирался от картографирования и научного описания, карантинизации и строгого пограничного контроля до строительства магистралей, переселенческого движения и обеспечения продовольственной безопасности. Причинами поражения политики Обер Оста Лилевичус называет невыполнимость колоссальных планов, фундаментальное противоречие между попытками тотального контроля населения и эксплуатацией территорий.
По мнению автора, образ ландшафтов оккупированных территорий играл важную роль в Веймарской республике. Именно эксплуатация представлений о тяжелой «немецкой работе» на Востоке, в результате которой были якобы посеяны долговременные всходы, а также образов отличных от Западного фронта бескрайних просторов стала основой межвоенной экспансио- нистской пропаганды. Переработка опыта Первой мировой войны на Востоке привела к редуцированию представлений о многообразии культур и народов на этих территориях до обезличенного понятия «пространства» (Raum), которое следовало просто завоевать и освоить в ресурсном отношении, невзирая на жертвы среди местного населения [Liulevicius, 2000].
Признавая несомненный новаторский характер данного труда, следует отметить некоторые лакуны. Описывая политику Обер Ост, Лилевичус чаще всего ограничивается дискурсивным уровнем – анализом планов и директивных решений, почти не уделяя внимания специфике реализации их на конкретных территориях. Долгосрочные эффекты оккупационных практик реконструируются им опять же на материалах межвоенных дискуссий в Германии без анализа реальной трансформации или консервации ландшафтов в новообразованных государствах. Компаративный анализ – помещение немецкой оккупационной политики в контекст практик обращения с занятыми территориями со стороны Австрии и России – позволил бы сделать выводы о влиянии Первой мировой войны на взаимоотношения человека и природы в государствах Восточной и Центральной Европы в ХХ в. в целом.
Дискуссии о перспективах сравнительных исследований австро-венгерского военного опыта на Восточном фронте открывает сборник «Смена фронтов. Великая война Австро-Венгрии в сравнительной перспективе» (Frontwechsel. Österreich-Ungarns “Großer Krieg” im Vergleich) [Frontwechsel…, 2014]. Анализируя состояние исследовательского ландшафта, редакторы сборника подчеркивают, что недавнее признание Первой мировой войны глобальным событием привело к расширению спектра сравнительных перспектив – синхронной, диахрон-ной, транснациональной. Помещение первой индустриальной войны в контекст более длительных трендов позволяет оценить ее не только как «родовую травму столетия» или финал существования (Австро-Венгерской) империи, но и как катализатор наметившихся еще в XIX в. тенденций [ Dornik, Walleczek-Fritz, Wedrac , 2014, S. 9–29]. В своих теоретических размышлениях о потенциале и границах сравнительного анализа применительно к Первой мировой войне Х. Ляйдингер присоединяется к позиции современных скептиков, отказывающихся от чистой компаративистики в пользу изучения трансфера идей, дискурсов, практик. Кроме того, автор подчеркивает важность учета региональных особенностей, к примеру, того факта, что в отличие от достаточно изученных контекстов Западного фронта для стран Южной Европы, Российской империи и Австро-Венгрии выстрел в Сараево стал, по сути дела, началом новой фазы балканских войн, которые продлились до 1923 г. [ Leidinger , 2014, S. 37–49]. Тем не менее Российская империя практически не выступает для авторов и редакторов этого сборника tertium comparationis.
Наибольший интерес для проблематики экологической истории представляет статья Ш. Ленштедта о перспективах сравнительного анализа немецкой, австро-венгерской и нацистской оккупаций в Польше в годы Первой и Второй мировых войн. Не касаясь той части статьи, которая посвящена нацистским практикам господства и продуктивности подобного диахронно-го анализа, следует отметить, что постановка вопросов первой части демонстрирует потенциал анализа устойчивых последствий различных практик обращения с прифронтовыми ландшафтами Первой мировой войны. Ленштедт подчеркивает, что факт создания Центральными державами на территории Царства Польского не одной оккупационной зоны, а двух генерал-губернаторств указывает, с одной стороны, на значительную разницу интересов, с другой – на долгосрочное видение своего присутствия на этих территориях, которое было схожим: желание интегрировать Польшу вместе с ее экономикой и населением в свою сферу влияния означало необходимость кардинального изменения существующего порядка. При этом обе оккупационные державы начали с мародерства и лишь постфактум предприняли усилия по созданию экономической администрации. Иными словами, развитие обоих губернаторств в годы войны шло параллельно и привело к разным результатам. При их предварительной оценке автор выходит на проблему учета происходящих в условиях войны трансформаций территорий и способов хозяйствования. По его мнению, опустошение ландшафтов в ходе военных действий неизбежно вело к снижению продуктивности непосредственно после вторжения, а возвращение относительно мирной ситуации в условиях оккупации – к росту производительности [Lehnstaedt, 2014, S. 283–303]. Это делает относительными статистические показатели и свидетельствует о необходимости более детальных и глубоких исследований взаимовлияния оккупационных практик на окружающую среду и способы хозяйствования.
Выводы
Подводя итог, следует отметить, что в современном исследовательском ландшафте экологической истории сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, внимание к природному фактору, взаимовлиянию природной среды и русского национального характера, к ее воздействию на российское политическое развитие в условиях старого режима стало устойчивой традицией историографии от В. Ключевского до Р. Пайпса, с другой – Россия на сегодняшний день причисляется к тем регионам мира, которые почти не изучены экологическими историками [ Bruno , 2007, p. 635–650]. Немногочисленные существующие работы основной упор делают на изучении советской экологической политики. Предшествующие тенденции развития дискурсов, структур и практик рассматриваются с детерминистской перспективы как безальтернативная прелюдия к большевистским формам обращения с природой. При этом из научной дискуссии практически выпадают проблематика (дис)континуитета с периодом Российской империи, вопросы трансфера представлений и практики и трансформации экосистем в транснациональной перспективе.
На фоне активизировавшихся в последние годы исследований экологической истории Первой мировой войны Восточный фронт упорно остается той лакуной, которая настоятельно требует своего заполнения. Изучение влияния военных действий на ландшафты Восточной Европы, попытки реализовывать собственное видение организации пространства разными державами на одних и тех же территориях, трансформации хозяйственных практик со стороны местного населения, а также долгосрочных эффектов способны скорректировать господствующие в научной литературе представления об универсальности процессов и явлений, имевших место на Западном фронте или в колониях западноевропейских стран.
Список литературы Экологическая история первой мировой войны на восточном фронте: лакуны историографического ландшафта и исследовательские перспективы
- Байрау Д. Наука, техника и общество в Первой мировой войне // Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны. СПб.: Нестор-История, 2007. С. 25-32. EDN: SNFTWH
- Быстрик А. Новогрудок в годы Первой мировой войны (1914-1915 гг.) // Города империи в годы Великой войны и революции. М.; СПб.: Нестор-История, 2017. С. 238-271.
- Города империи в годы Великой войны и революции / под ред. А. Миллера, Я. Черного. М.; СПб.: Нестор-История, 2017. 520 с.
- Мамин Р.Г. Экология войны. М.: Экономика, 2011. 493 c.
- Нагорная О.С., Никонова О.Ю. Рецензия: Foerster H., Herzberg J., Zueckert M. (Hg.) Umweltgeschichte(n). Ostmitteleuropa von der Industrialisierung bis zum Postsozialismus. Gottingen: Vandenhoeck&ruprecht, 2013. 346 s. // Вестник Перм. ун-та. Серия: История. 2016. № 2 (33). С. 162-165.