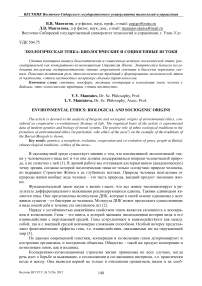Экологическая этика: биологические и социогенные истоки
Автор: Мантатов В.В., Мантатова Л.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 5 (56), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу биогенетических и социогенных истоков экологической этики, рассматриваемой как кооперативно-коэволюционная Стратегия Жизни. Эмпирическим базисом исследования послужили экспериментальные данные современной генетики и биологии моральных систем. Показана позитивная роль этноэкологических традиций в формировании экологической этики (в частности, «этики местности») на примере обычаев бурят-монголов.
Генетика, ноосфера, эволюция, кооперация и коэволюция генов, человек у байкала, этно-экологические традиции, "этика местности"
Короткий адрес: https://sciup.org/142143104
IDR: 142143104 | УДК: 504.75
Текст научной статьи Экологическая этика: биологические и социогенные истоки
В околонаучной среде существует мнение о том, что инстиктивной экологической этики у человеческого вида нет и что она должна поддерживаться вопреки человеческой природе, а не созвучно с ней [1]. В данной работе мы отстаиваем альтернативную (академическую) точку зрения, согласно которой экологическая этика не только «созвучна» природе человека, но выражает Стратегию Жизни в ее глубинных истоках. Природа человека неотделима от природы жизни вообще: ведь человек – это часть природы, высший продукт эволюции жизни.
Фундаментальный закон науки о жизни гласит, что все живое эволюционирует в результате дифференциального выживания реплицирующихся единиц. Такими единицами являются гены. Они представлены молекулами ДНК, которые в своей основе одинаковы у всех живых существ – от бактерии до человека. Молекула ДНК может продолжать существование в виде копий себя в течение ста миллионов лет [2].
Наряду с устойчивостью важнейшим свойством генов является склонность к кооперации и коэволюции. Гены – это книга, в которой записана эволюционная история вида и его взаимодействия с окружающей средой. Гены сотрудничают и взаимодействуют как между собой, так и с внешней средой неимоверно сложными способами. Особый интерес представляют фенотипические эффекты гена, т.е. взаимодействия, оказываемые им на окружающий мир [3].
По данным современной генетики, кооперация и коэволюция генов детерминируют и построение организмов, и построение общества. Общество – такой же продукт кооперации и коэволюции генов, как и индивид.
Кооперативно-коэволюционная стратегия жизни применима во всех случаях, когда речь идет о борьбе за выживание, о столкновении и согласовании интересов, т.е. практически везде и всюду. Она является верной не только в отношении организмов, видов и их сооб- ществ, но и в отношении эволюции человечества и его отношения с природой. В контексте данного исследования нас интересуют три уровня кооперативно-коэволюционной стратегии жизни. Первый уровень – это кооперация и коэволюция генов. Второй уровень охватывает построение генами организмов. Третий уровень – это кооперативный социализм (П.А. Кропоткин, В.И. Ленин) в пределах национальных сообществ и коэволюция Человечества и Природы в планетарном масштабе.
Неолиберальные идеологи олигархического капитализма пытаются доказать, что эгоизм правит миром, что конкуренция есть единственный механизм биологической и социальной эволюции. Однако эти идеи противоречат данным современной науки. Сегодня с уверенностью можно сказать: не столько эгоизм и конкуренция, сколько альтруизм и кооперация сыграли ведущую роль в биологической и социальной эволюции.
Основоположник теории эволюции Ч. Дарвин говорил, что нравственное чувство человека основано на социальных инстинктах, развившихся у наших предков в связи с общественным образом жизни. По данным социобиологии, общественные насекомые оставляют больше копий своих генов в следующем поколении, не размножаясь, а помогая выводить потомство своим сестрам [4].
В последние годы получены статистические доказательства существования генетической основы нравственного чувства человека. Экспериментально доказано, что от генов в значительной мере зависят такие моральные качества, как альтруизм и доверие, склонность к сотрудничеству и кооперации, стремление к равенству [1]. Генетика отвечает за реципрокный альтруизм в пределах человеческого рода [5]. Но есть также альтруизм иного рода, а именно сверхальтруизм, т.е. экологическая этика. Это любовь к природе и благоговение перед нечеловеческими формами жизни. Есть основания предполагать, что экоэтика укоренена в экологии генов и эволюции живого на Земле.
Биологическую основу экоэтики образует генетическое родство человека и нечеловеческой живой природы. Научно доказано: все живые существа, включая человека, ‒ родственники. Между человеком и шимпанзе 98-99% схожих генов, а между шимпанзе и орангутаном – 96%. У человека и обезьяны имеются одни и те же системы регуляции общественного и полового поведения, и действуют они похоже. Не только тело и мозг, но и мышление и мораль человека произошли эволюционным путем от более ранних приматов. Если доказано генетическое родство человека и животных, то мы должны преодолеть эгоизм человеческого рода по отношению к живой природе, проникнуться чувством сострадания и альтруизма ко всем живым существам. Вести себя со всеми хорошо и бескорыстно, потому что мы все вместе и мы все – родственники на этой Земле, – таково исходное правило экологической этики.
А теперь о самом главном. Глубинной онтологической основой экологической этики является закон восходящей эволюции. Биологическая эволюция слепа к будущему, но она создала человеческий мозг – устройство, способное познать мир и предвидеть будущее. У человека есть способность говорить о вещах, которых нет в реальности. У человека есть способность к построению идеальных миров. У человека есть культура. Все это можно вместить в одно слово: ноосфера. Человеческая эволюция – это ноосферная эволюция.
Что же является механизмом человеческой эволюции? Сознание человека. Экоэтика и есть тот феномен нравственного сознания который поддерживает восходящую эволюцию человеческого общества. Экоэтика – это этика духовного возрастания человека, а духовность есть не что иное, как расширенное сознание ответственности человека за дальнейшую эволюцию живой природы. Воспитание нравственной ответственности человека за устойчивое будущее мира – такова главная цель экологической этики как эволюционного феномена.
Существует много способов изменения отношения человека к природе. Мы же выделяем экзистенциальную роль воспитания чувств и формирования экологической совести. Как известно, именно эмоции и чувства, а не логика и расчет поддерживают нравственность. По данным нейробиологии, при решении моральных проблем у людей активизируются те области мозга, которые связаны с эмоциональной сферой [6].
Экологическая этика станет бытийной силой только тогда, когда она овладеет эмоционально-чувственной сферой «участно-поступающего сознания человека» (М. Бахтин). А для этого экоэтика должна основываться на конкретных жизненных смыслах, на тех ценностях, которые ассоциируются с «месторазвитием», или чувством родины, которые есть у каждого человека.
«Месторазвитие» рассматривается нами как сложный этнокультурный феномен, порожденный диалектикой коэволюции природы и социума, а «этика местности» - как общественный инстинкт. «Этика местности» имеет огромное значение для устойчивого развития сообществ, поскольку она гарантирует возможность построения моделей принятия экологических решений с учетом предпочтений местных жителей. «Этика местности» ищет экоэф-фективные пути решения вопросов, связанных с использованием природных ресурсов, - пути, прямо противоположные по отношению к рыночно-потребительским подходам. «Этика местности» предлагает моделировать экологические решения не по правилам рынка, а по этическим принципам, опираясь на чувство собственного географического места.
При этом очень важно различать местничество, основанное на экономическом эгоизме, от морального чувства «месторазвития». Если экологическое поведение местных жителей вызвано экономическим интересом, то их, как правило, вполне удовлетворяет денежная компенсация за нанесенный ущерб местному ландшафту. С точки зрения экологической этики, они ничем не отличаются от тех технократов и дельцов, которые разрушают окружающую сферу ради прибыли. Но если местное сообщество защищает свое «месторазвитие», руководствуясь альтруистическими (эколого-этическими) мотивами, то такое местничество заслуживает всяческого одобрения. Например, байкальское экологическое движение имеет высокий моральный авторитет именно благодаря своей бескорыстной борьбе за охрану оз. Байкал. Байкальский пример убеждает нас в том, что экологическое движение является релевантным и эффективным, если оно опирается на этноэкологические традиции и местные перспективы, с одной стороны, и на эколого-этический альтруизм, связанный с ощущением Земли как Общего Дома, - с другой.
Этизация отношения Человека у Байкала к окружающей природной среде была бы невозможна без опоры на этноэкологические традиции, аккумулирующие традиционные знания, навыки и способы коэволюции природы и общества. Этноэкологические традиции - это совокупность знаний, умений и навыков, накопленных местным населением в процессе исторического взаимодействия с окружающей природной средой. Через систему этноэкологи-ческих традиций каждый народ регулировал взаимоотношения с окружающим естественным миром.
Позитивную роль этноэкологических традиций и их роль в формировании «этики местности» можно проиллюстрировать на примере обычаев бурят-монголов. Древние буряты-монголы полагали, что человек одновременно является продуктом Неба и Земли. Испокон веков, поклоняясь Небу, бурят-монголы старались быть достойными милости и величия Неба. Солнце они называли распорядителем жизни, а луну - ее охранителем. Земля почиталась как прародительница, как источник жизни. Все, что растет на земле, - это живые дети Земли-Матери. Поэтому категорически запрещалось людям колоть ножом Землю, осквернять водоемы и горы, без надобности рвать траву, ломать деревья и т.д. В случае надобности в биоресурсах практиковались молебны, испрашивающие разрешения хозяев земли на вторжение на их территорию.
Опираясь на культ территориальных «эжинов», которые можно рассматривать как архетипы традиционного общества, древние бурят-монголы формируют своеобразную «этику местности», и эта этика глубоко экологична. Порожденная определенной природноландшафтной средой, она ориентирует людей на адаптивное природопользование. Согласно бурят-монгольским преданиям, в лесу надлежало соблюдать чистоту и тишину, чтобы не разгневать «хозяина тайги». Во время охоты в тайге нельзя было преступать меру дозволенного, убивать зверей без хозяйственной нужды в них. Древние бурят-монголы верили, что на каждого человека отпущено определенное количество природных благ, и если он, например, убьет зверя сверх меры, то может расплатиться своей жизнью или жизнью своих детей и внуков. Словом, процесс потребления биоресурсов строго регулировался «этикой местности».
Сегодня, когда природа перестала восприниматься людьми как одушевленное существо и исчезло чувство благоговения перед жизнью, мы начали понимать, какую «спасательную» функцию по отношению к природе выполняли и могут выполнять этноэкологические традиции. Одушевление природных сил породило бережное отношение к земле, воде, лесам, а чувство благоговения перед природой – эстетическое восприятие внешнего мира. Бурят-монгольские сказки и легенды буквально пронизаны экологической эстетикой – это удивительные по силе влияния на человеческие чувства поэтические творения.
Экологическое поведение людей на той или иной территории зависит от того, в какой роли они выступают: в роли местного жителя или рыночного агента. В отличие от участников рыночного процесса, которые воспринимают природные ценности абстрактно и относятся к ним лишь как к ресурсам, местные жители, находящиеся в живом контакте с окружающей средой, воспринимают природу как источник жизни. У них развита экологическая чувствительность, которая отсутствует у тех, кто оперирует сухими цифрами, обосновывая необходимость хозяйственного освоения природных ресурсов. Хозяйственников интересует рыночная стоимость природных ресурсов гораздо больше, чем нравственно-эстетическая ценность окружающей среды. В отличие от них местные жители не могут не быть заинтересованы в сохранении и облагораживании местных ландшафтов, хотя бы потому, что они связаны с ними каждодневно, «здесь и теперь». Поэтому любая система экологической этики, если она не лишена жизненного смысла, должна основываться на местных перспективах, на этноэкологических традициях местного населения. Такова гипотеза данного исследования. Многолетний опыт борьбы за сохранение оз. Байкал подтверждает эту гипотезу.
Статья подготовлена в рамках проекта РНФ № 14-18-02006.
Список литературы Экологическая этика: биологические и социогенные истоки
- Ридли М. Происхождение альтруизма и добродетели: от инстинктов к сотрудничеству. -М.: ЭКСМО, 2013. -336 с.
- Докинз Р. Эгоистичный ген. -М.: ACT CORPUS, 2013. -С. 397.
- Dawkins R. The extended phenotype. -Oxford: W.H. Freeman, 1982.
- Wilson E. O. The insect societies. -Cambridge: Harword Univ. Press, 1972.
- Trivers R.L. The evolution of reciprocal altruism//Quarterly review of biology. -1971. -N 46. -P. 35-57.
- Alexander R.D. The biology of moral systems. -N.Y.: Aldine de Gruyter, 1987.