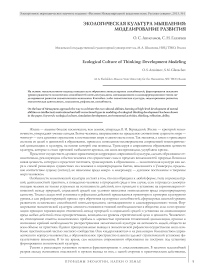Экологическая культура мышления: моделирование развития
Автор: Анисимов О.С., Глазачев С.Н.
Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) Электронный ресурс @vestnik-rsias-online
Рубрика: Проблемы экологии, науки о земле
Статья в выпуске: 1, 2013 года.
Бесплатный доступ
На основе метасистемного подхода показан путь обретения экокультурных способностей, формирования высокого уровня развитости психических способностей интеллектуального, мотивационного и самокоррекционного типов мо делирования развития экологического мышления.
Экологическая культура, моделирование развития, экологическая деятельность, мышление, рефлексия, способность
Короткий адрес: https://sciup.org/14315530
IDR: 14315530
Текст научной статьи Экологическая культура мышления: моделирование развития
О. С. Анисимов, С. Н. Глазачев
Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова, НОЦ ТЭКО, Россия
Ecological Culture of Thinking: Development Modeling
O. S. Anisimov, S. N. Glazachev
M. A. Sholokhov Moscow State University for the Humanities, SEC TECO, Russia
На основе метасистемного подхода показан путь обретения экокультурных способностей, формирования высокого уровня развитости психических способностей интеллектуального, мотивационного и самокоррекционного типов моделирования развития экологического мышления. Ключевые слова: экологическая культура, моделирование развития, экологическая деятельность, мышление, рефлексия, способность.
On the base of Metasystem approach the way to cultivate the eco-cultural abilities, forming of high-level development of mental abilities on intellectual, motivational and self-correctional types in modeling of ecological thinking development has been shown in the paper. Keywords: ecological culture, simulation development, environmental activities, thinking, reflection, ability.
Жизнь — явление больше космическое, чем земное, утверждал В. И. Вернадский. Жизнь — критерий экологичности, утверждают ученые сегодня. Бытие человека, направленное на предельное соответствие сущности мира — «онтосу» — есть духовное стремление к постижению мира и своего места в нем. Так экология, а затем и трансляция системы ее целей и ценностей в образовании, привели к пониманию несовершенства современной технократической цивилизации и культуры, на основе которой она возникла. Транслируя в современном образовании ценности культуры, которые и стали причиной глобального кризиса, мы лишь воспроизводим, усугубляем кризис.
Предстоит осуществить духовно-нравственную коррекцию современной культуры, сделать образование от-нологичным, реализующим в бытии человека его сущностные силы в пределах возможностей природы. Возникла новая ценность, которую и предстоит пестовать, транслировать в образовании — экологическая культура как мера и способ реализации сущностных сил человека в социоприродном бытии, вписанность в Универсум, предельное соответствие сущему (онтосу), не нанесение вреда макро- и микромиру — духовное постижение и творение мира человеком.
Особенности экологической культуры состоят в том, что она обращена к любой форме, типу социокультурной, деятельностной практики, к поведению человека в природной среде в том случае, если в процессе самоорганизации человек не только устремлен на осознанность действий, но и приходит к установке на гармонизацию отношений между природой, социальной средой как условию нанесения минимального вреда социоприродному единству. Только следуя этой установке в рефлексию действий привлекаются ориентиры и критерии культурного уровня, а сам рефлектирующий прошел путь обретения культурных способностей, сформировал высокий уровень развитости психических способностей интеллектуального, мотивационного и самокоррекционного типов. Формирование экологической культуры личности становится типовой необходимостью в обществе, если в его организации принцип гармонизации отношений между природой и социальной средой и установка на минимизацию вреда любых действий стали приоритетными, возведены на уровень стратегической цели и ценности. Человечество, отягощенное опытом экологических проблем и мрачностью прогнозов техногенной цивилизации, пришло к осознанию крайней необходимости распространения экологической культуры на активность людей, обществ во всем объеме их практики. Однако принципиальные выводы в экологической рефлексии осуществлены лишь наиболее чувствительной частью элитного сообщества. Они «задерживаются» в их реализации большинством управленческого корпуса человечества, а образовательное пространство планеты уделяет стратегической установке факультативное внимание. В то же время, сам механизм современного образования не построен под установку формирования экологической культуры.
Успехи в реализации установки остаются фрагментарными и локализованными. В наличии масштабный разрыв между осознанием опасностей и путями выхода из них, с одной стороны и практическими действиями, адекватными масштабам угроз и проницательности осознавания, с другой стороны. Среди наиболее значимых целей в коррекции, организации обществ, образовательных систем в рамках идеи экологической культуры является создание моделей формирования экологической культуры личности, в том числе, у студентов вузов.
Экологическая практика, как и любая практика, она имеет два неизбежных слоя — «действия» и «рефлексия», т. е. анализ действий с направленностью на совершенствование способа действия в связи с возникшими или могущим возникнуть затруднением. Поэтому человек должен иметь способности, как к действию, так и к рефлексивному анализу действий, а затем к коррекции действий по результатам рефлексии. В способности к действию различаются моменты способности к вхождению, пребыванию и выхождению из действия. Вхождение предполагает понимание предложенной нормы действия, субъективно-мотивационное её принятие, т.е. самоопределение, и проверка готовности к действию, наличие способности к адекватному следованию требованиям нормы. В фазе пребывания в действии предполагается само следование требованиям нормы и самоконтроли-рование. В него входит и микрорефлектирование, сопровождающая рефлексия и корректирование, но предполагающее выделенность рефлексии. При выхождении из действия, вытесняется мотивация и необходимость реализации требований, человек «освобождается» от действия нормативных рамок. Мы видим, что осуществление действия, в отличие от поведения, опирается на осознанность, самоосознанность, мышление и волю, в случае преодоления препятствий в направленности на следование требованиям, препятствий субъективного характера, «сопротивления» субъективности требуемому проявлению.
Экологический характер действие приобретает в том случае, если при организации действия вводится установка на гармонизацию отношений в природно-социальной среде для минимизации вреда от осуществляемого действия. Следовательно, действие обретает свои экологические черты лишь при специализации сопровождающей или упреждающей рефлексии на значимость, а затем и ценность ненанесения вреда и окружающей среде, и действию, и действующему, т.е. выходу за рамки допустимых отклонений от объективно неизбежных трансформаций в ходе воздействия на окружающую среду, как природную, так и социальную. Введение в рефлексии установки на отсутствие «вреда», недопустимых трансформаций может усиливаться привлечением критерия адекватного соотношения «части» и «целого». При этом сама адекватность трактуется как подчиненность «части» «целому», что присуще системам в отличие от структур. Именно поэтому экологический подход подчинен критериям системного анализа и обесценивается в структурном подходе. Это связано с фундаментальным отличием в сущности структур и систем [6, 7].
Так как введение в рефлексию фокусировки на роль части в целом, на соотношение части и целого, на принцип подчиненности части целому, включенности бытия части в бытие целого и т.п. означает, что действующий не ограничивается сопровождающей рефлексией, придает ей статус самостоятельного слоя практики, то экологическое действие возможно лишь при полноценной и регулярной рефлексии действия и выделенности рефлексивной фокусировки, обеспечивающей реализацию установки на минимизацию вреда от действия, на своевременную коррекцию способа действия и самого действия в случае обнаружения неадекватности, нереализации указанного принципа. Однако все это возможно лишь при полноценности рефлексивного механизма включающего интеллектуальное обеспечение трех рефлексивных функций — реконструирование осуществленного действия до «приостановки», выявление причин «приостановки», затруднения и разработки более «совершенного» способа действия, т.е. нормы [1, 11, 12]. Введение экологической фокусировки и привлечение экологического и системного критериев существенно усложняют рефлексивный процесс и его механизм.
Экологическое сознание и мышление. Сознательность экологического действия предполагает наличие механизма сознания и его обращенность к экологичности действия. Сознание возникает в результате внутреннего рассмотрения интеллектуального механизма при активном использовании языковых средств (Гегель, Л. С. Выготский, Л. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.). Механизм языка, его средственная основа, обеспечивающая осуществление коммуникации, изложение мысли, понимание критики, совершенствования, организации процессов мышления и вынуждает к переходу от первичных представлений, стихийных, ситуационных, индивидуальных и к надындивидуальным, конвенциональным, обобщенным, типизированным представлениям. Именно формы оперирования средствами языка и внешней организации построения текстов, высказываний, рассуждений стимулируют рефлексивное сопровождение и самоконтроль, самокоррекцию относительно содержания первичных и вторичных представлений, слежение и направление их в контексте замыслов высказывания и рассуждений. Благодаря языковым средствам, стандартам их состава и применения, человек вынужден выращивать вторичные представления, иметь «два» варианта картины мира: свой оригинальный, неосознаваемый, и заимствованный у языка, хотя и в индивидуализации присвоения. Таким образом, механизм сознания, как фокусированное отслоение от базисного рефлексивного механизма, обеспечивает слежение за содержанием своей и чужой мысли, возможность своевременных поправок. Человек становится способным разделять свою и чужую мысли, намечать желаемые или требуемые изменения.
Экологическое сознание специфично обращенностью на характер экологического действия, его подчиненности экологической установке, что позволяет заметить отход от реализации экологической установки и
Электронное периодическое научное издание «Вестник Международной академии наук. Русская секция», 2013, №1 вводить прогнозы возможного действия и возврата в соответствие установке. Сознание то включено в рефлексивный цикл, то остается в пределах исследовательской установки. Мышление обеспечивает интеллектуальное сопровождение действия, построение и перестроение образов, их выражение в высказываниях, включаемых в коммуникативный процесс, реальный или виртуальный, возможный, созидаемый внутри по подобию обычному коммуникативному процессу.
Экологическая культура. С культурой связана высшая неслучайность проявления субъективности во всех формах, включая интеллектуальные, мотивационные, самокоррекционные, взаимодействия и т. п. (Гегель). Поскольку содержанием неслучайности в данном случае выступает реализация установки на отсутствие или минимизацию вреда воздействий на природную и социальную среды в их сопряжении, то придание неслучайности, в ее высших формах, касается и действия, и рефлексии. Само действие в его содержании и форме зависит от предваряющей рефлексии и, хотя бы, нормативной мыслительной работы, то основная нагрузка на внесение неслучайности ложится на рефлексию, включая завершающий нормативный этап, зависимый от результатов критики, проблематизации и реконструкции предыдущей практики. Однако сама рефлексия, ее качество зависит не только от самого материала ситуативных сюжетов, сколько от применяемых средств анализа, если они выражают неслучайное в сюжетах. Поэтому сам переход к культурной форме рефлексии и внесение культурности в действие предопределяется качеством применяемых критериев, берущихся в науке и философии (О. С. Анисимов, Г. П. Щедровицкий).
Культурность в экологической рефлексии обеспечивается как высшими по уровню абстрактности и сущностной глубине критериями, касающимися законов бытия и ближайших их конкретизаций, так и высших различений в мире деятельности и собственно рефлексии, что и позволяет вносить высшую неслучайность в созидаемых рефлексивных результатах. Особую роль в анализе экологических действий и сред имеет системный и метасистемный блок критериев. Они прямо связаны с учением о бытии [9]. Выделятся базисный тезис о том, что часть должна быть вписанной в целое, в конечном счете — в универсум как «сверхнечто», обладающее первоос-нованиями. Непосредственно различаются тактики изолированного бытия части, входящей в отношения с другими частями, и части, включенной в целое. В первом случае часть берет на себя ответственность за себя, а все иное, в том числе иные части рассматриваются как ресурс возможных «предметов потребности». Именно эта установка ведет к максимальному вреду окружающей среде, а потом и самой эгоцентрической части. Во втором случае часть несет ответственность за себя, затем — за иные части, с которыми она входит в отношения, при этом по «остаточному» принципу, ситуативно, временно. Здесь масштаб вреда несколько ограничивается. При реализации третьей установки ответственность сначала берется за благополучие целого, потом за благополучие части и наконец, за благополучие иной части соотнесено с благополучием целого. В этом случае возможный вред окружающей среде минимизируется. Однако есть более высокая установка, возникающая в метасистемном подходе [10]. В рамках этой установки ответственность сначала берется за благополучие универсума, а лишь затем за меньших масштабов — целостности. И только после этого перед иными частями, в соотнесении с благополучием универсума и меньших целостностей.
Именно метасистемный подход непосредственно ведет к исходным основаниям духовной самоорганизации людей, что отмечено, в той или иной степени во всех религиозных системах, в наибольшей степени — в ведической линии мироотношения. Поэтому реализация экологического подхода и экологическая рефлексия, опирающаяся на высшие критерии, непосредственно приводят к актуализации потенциала духовного самоотношения, к актуализации потенциала именно гегелевской философии с ее учением о пути духа, универсумальной циклической смены состояний духа. Можно сказать и таким образом, что вместе с обретением экологической культуры, в рамках достижимости успеха на этом пути, мы вынуждены осваивать философские основы, постигать духовные практики и принципы, в том числе, в определенной степени и корректно, устоями базисных религий, сохранивших следы исходной формы духовности — ведической.
Поскольку отношение к реальности и самоотношение связано со знанием реальности, во всех ее типах, в том числе и субъективной реальности, то экологическая культура включает в себя соответствующий уровень интеллектуальной культуры, в том числе основной компонент этой культуры — рефлексивную культуру. Практическая сторона экологического поведения предполагает, при включенности культурного слоя в самоорганизацию, и культуру самокорректирования и культуру отношений с другими людьми и группами людей различных типов.
Иначе говоря, экологические проблемы являются поводом для включения таких форм экологической рефлексии, которые, при внесении установки на максимальную неслучайность, мобилизуют все основные мировоззренческие и мироотношенческие потенциалы, направляют к общей и дифференциальной культуре, к миру духовности. Экологически культурный человек, по сути, максимально соответствует требованиям духовности, оставаясь в русле практического, обычного бытия в природе и в обществе.
Развитие человека в ходе социализации. При рассмотрении динамики роста способностей человека возникает много проблем, связанных с корректностью трактовок, поскольку любые квалификации опираются не столько на материал сведений о реальной динамике, сколько на критерии, средства квалификаций или оценок. Ес- ли говорится о культурных способностях, то средством мыслительной квалификации выступает сочетание понятий «способность» и «культура». В свою очередь понятие «развитие» принадлежит группировке понятия, включая такие, как становление, функционирование. Но в исходных различениях особую роль играет различие понятий «развитие» и «изменение». В практике анализа неразличение или вольное обращение с этими понятиями ведет к множеству ошибок, неточностей.
Если мы рассмотрим экологическую культуру как один из типов культуры, содержание которого предполагает наличие базисного различения «культура», то необходимо сначала понять особенность культуры, ее функцию, специфику появления или становления культуры, опираясь на докультурные уровни бытия. Иначе говоря, чтобы осмысленно пользоваться термином «культура», следует ввести представление о многоуровневом бытии, о механизме появления уровней, о появлении того уровня, который предшествует культурному уровню, о факторах, порождающих культуру и переходе от этого уровня к более высокому уровню, если его наличие можно доказать. Неопределенность в трактовках культуры и других сложных явлений создает много проблем в гуманитарии, в современной аналитике, в том числе в аналитическом обеспечении образовательной сферы. В то же время, великолепным памятником философской мысли выступает гегелевская теория развития духа. Она показывает уровневую панораму трансформаций в развитии, включая развитие природы и духа. Более того, Гегель внес в философию свой метод рассмотрения, придающий развертыванию панорамы неслучайный характер. Этот метод он назвал «абсолютным», присущим философскому мышлению. В его основе лежит сущностный механизм именно развития, который в марксизме трактовался как диалектический механизм качественных изменений. Рассматривая гегелевскую «философию духа» мы обнаруживаем и необходимое нам представление об уровнях социокультурного бытия.
Для решения огромного числа задач и проблем в гуманитарии мы особым образом оформили гегелевскую версию, учитывая сложившиеся к концу ХХ века исходные различения. Но для изложения содержания многоуровневой конструкции мы сначала снимем неопределенность в различии понятий «изменение» и «развитие».
Для того чтобы говорить об изменении достаточно придерживаться структурного подхода. Вхождение в отношения, связанность меняет состояние «нечто», следовательно, модифицирует его структуру, внутренние взаимозависимости, не меняя основы всех компонентов. В немецкой классической философии были популярны термины «в-себе», «для-иного», «для-себя» бытие. Бытие «в-себе» можно рассматривать как основа «нечто», которая двояко модифицирует свои проявления, либо подчиненно воздействию, т.е. в рамках «для-иного», либо подстраивая свое реагирование под устремленность самосохранения, т.е. в рамках «для-иного».
В структурных отношениях между различными «нечто» и внутри самого «нечто» главенствуют именно формы «для-себя» с промежуточным состоянием «для-иного». Любые более или менее значимые воздействия в структурной динамике сохраняют «в-себе» бытие «нечто», а на периферии создаются проявления «для-себя» и «для-иного» бытия. Здесь нельзя говорить о развитии наблюдая множественные изменения. А само «нечто» кажется неустойчивым, постоянно меняющим свой лик. Тем самым, в условиях образовательного процесса легко создать изменения учеников, если они достаточно чувствительны и их «защита» не слишком велика. Но чтобы привести к развитию нужно сначала перейти от структурного к системному подходу.
В системной динамике появляется еще один тип реагирования «для-в-себе», когда меняется содержание основания «нечто». Эта смена не может осуществиться легко, так как бытие «в-себе» обладает инерциальностью, самозащищенностью. В случае процессов созревания организма или стадии становления «нечто» содержание «в-себе» бытия меняется, но не как реагирование на внешнее воздействие, а как самораскрытие по «генетической программе» организма. Тем самым, эти фазы, качественные переходы предусмотрены программой, её движущим фактором, а сами изменяемые содержания становятся состояниями подлинного, «внутренне сущностного «в-се-бе» бытия. Ребенок, подросток, юноша и т.п. являются состояниями в становлении конкретного человека. Гегель называл этот процесс и становлением, и саморазвитием. А для раскрытия переходов от одного состояния развитости к другому следует рассматривать именно указанный тип реагирования, «для-в-себе». Его сущность и выражена в диалектике, в знаменитых положениях о переходе количества в качество, о двойном отрицании.
В практике совершенствования человека, в образовании легко обнаружить нужные особенности. Педагог предлагает решать задачи и различает типы задач относительно перспективы развивающего воздействия. Если содержание задачи значительно похоже на предшествующую задачу, то ученик прилагает минимальные усилия для ее решения и не развивается. В лучшем случае он укрепляется в достигнутом уровне развитости, приобретает навык. Еще более очевидно это изменение, если увеличивается сложность задачи. Однако для создания условий в развитии ученика степень сложности должна вынуждать отход от прежнего способа решения задачи, от прежнего субъективного подхода, от состояния самоорганизации, стимулировать к качественным изменениям и в интеллектуальном, и в мотивационном, и в самокоррекционном слое внутренних возможностей, к изменениям базиса способностей, т.е. к изменению содержания «в-себе» бытия. В педагогической психологии популярным является тезис Л.С. Выготского о необходимости «ближайшего развития». Расшифровка тезиса без диалектического подхода невозможна. Тем самым, когда говорится, что «нечто» — это система, а не структура, то говорится о наличии в нем предопределяющего целое основания. Все части подчинены ему при наличии самосохранности частей. Они суще- ствуют поэтому «для целого», а лишь потом «для-себя». Это предопределяющее целое основание и есть «в-себе» бытие целого. Чтобы оно содержательно изменилось, в рамках своей программы, необходимо активизировать внутренний импульс перевода из одного состояния «в-себе» бытия в другое. Нужно преодолеть инерцию. В этом и состоит «первое отрицание» в диалектике. Но оно всего лишь вовлекает импульс в обслуживание «ухода» от прошлого состояния. Чтобы импульс завершил свой цикл, и появилось бы новое, скажем, более развитое состояние, требуются новые усилия. От промежуточности, где нет стабильности и нечто не способно привычно реагировать, например, решать задачи, следует отойти, отвести, осуществить вхождение в новое состояние «в-себе» бытия, в новое содержание. Эти усилия посвящены «прикреплению» к новому состоянию. Возможное становится действительным, а затем и необходимым. Таким образом, отрицается уже нестабильность и появляется новая стабильность, осуществляется «второе отрицание». Появление нового состояния «в-себе» бытия целого меняет содержание обязанностей прежних частей. Масштаб требований может быть таким, что частям приходится самим проходить шаг развития.
Различив изменение и развитие, мы можем возвратиться к основной линии обсуждения. Мы разработали схему, названную «субъективная пирамида» [3]. Она выражает суть субъективности от природного начала до духовного, высшего уровня. «Лестница» уровней соотнесена с «лестницей» типов бытия, в которые входит субъективность. Входя в каждый из уровней, субъективность адаптируется к нему, используя приобретенное на предшествующих уровнях и заложенное в ней как исходная предпосылка, обладающая своеобразностью. Эту своеобразность мы фиксируем и оформляем в типологической процедуре, пользуясь метафизическими, системными и метасистемными средствами [7]. Каждый тип по своему проходит путь к высшему для себя уровню развитости. В основании «пирамиды» лежат три звена, выражающие основные группы психических механизмов: интеллектуальные, мотивационные и самокорректировочные. Переходя с уровня на уровень, все типы механизмов приобретают для человека новое содержание, своеобразие которого определяется типом субъективности человека, но в общих рамках содержания уровня субъективности. В субъективной «пирамиде» основаниями качественных переходов выступают особенности уровней бытия, в которые входит человек. Мы рассмотрели основные типы уровней: природный, социодинамичес-кий, социокультурный, деятельностный, культурный и духовный. Это учитывает типологию реальных сред, в которых пребывает человек и которая популярна в психологии и социологии, но слабо понятийно оформлена. Мы имеем все методологические условия для оформления и прототип, который нам оставил Гегель. Более сложные типы реальных сред, например, экономическая, политическая, образовательная и т.п. является сочетанием упомянутых выше. В реальных условиях жизни человека он многократно переходит из одного типа среды в другую, часто меняя уровни, как с «повышением», так и с «понижением». Поэтому накопление опыта идет не прямолинейно, а по индивидуальной кривой. Кроме того, в зависимости от типа человека, его субъективности темпы роста психических качеств, включенных в различные рамки типов субъективных механизмов, могут быть гармонически соразмерными, что ведет к гармоническому типу роста, а могут быть дисгармоничными, когда темп роста одного типа характеристик не совпадает с темпами роста другого типа характеристик. Развитие становится дисгармоничным с преобладанием либо интеллектуального, либо мотивационного, либо самокоррекционного роста, либо в более сложных сочетаниях. И тогда рост обретает конфигуративную специфичность, позволяющую строить «портрет развитости».
Важно подчеркнуть, что при слежении за развитием человека с помощью субъективной пирамиды, с учетом исходных особенностей и типов сред, и типов психических механизмов, а также с учетом сочетаемости изменений механизмов по критериям либо структурности, либо системности можно наблюдать ряд фундаментальных феноменов и закономерностей. Так выявляется, если оперировать теоретическими схемами и осуществлять процедуры соотнесения с эмпирическим материалом в акцентировках «подтверждение» и «опровержение», то феномен «Я», субъективной целостности по критерию однородности возникает именно в ходе социализации, опирающейся на освоение языковых средств и их применение на этапах понимания социокультурных и деятельностных норм, затем принятия норм, т.е. субъективного подчинения требованиям и самоотчуждения в их пользу, а затем самоконтроля и самокоррекции в случаях фиксации отхода от необходимого в действии. Языковые средства выращивают определенность как содержания образов, познавательных, прогностических и проектно-нормативных, так и субъективного отношения к содержанию.
Это качественно изменяет как проявление интеллектуальных, мотивационных и самокорректировочных механизмов, так и само их устройство, вынуждает к их развитию. Важна не только определенность проявлений и их результатов, но и синтезирование проявлений, совмещение механизмов. Первоначально синтез приводит к структурным целостностям и лишь затем появляются системные целостности. Если структурные синтезы субъективных механизмов еще не дают эффект «Я», то системные приводят к этому типу синтеза, его результату «Я». Именно «Я» и является основанием появления феномена ответственности, иного уровня самоорганизации. Иначе говоря, появляется начальная форма «самости» (Э.В. Сайко). Как говорил Гегель, природный дух обретает определенность и становится «субъективным», порождающим от имени своего «в-себе» бытия.
Мы видим, что природное бытие, в субъективном слое выражаемое как «жизнедеятельность», в ходе социализации на начальных этапах «социодинамики» сохраняет структурный тип синтеза, но уже вносит, через посред- ство освоения языка, момент системного синтеза, момент порождения «Я», обеспечивающий согласовательный процесс и выход за рамки эгоцентрического самовыражения. Человек становится способным как порождать согласованные требования к совместным действиям, так и соблюдать договоренности. Однако надежность в соблюдении договоренностей, в сохранении самоопределенности в пользу надындивидуальных требований носит начальный, предварительный характер. Давление самовыражения, индивидуальных потребностей обеспечивает большую вероятность нарушения договоренности и предопределения обязанностей по ситуации, внутренней и внешней.
Качественно более высокая надежность возникает при внесении в согласование критериев, при выделении, с помощью языка и появления арбитражного звена в коммуникации арбитражной коммуникации, языковых семантических единиц в роли критериев. Критерии вносят не только их надситуативный потенциал, абстрактность, но и предопределяют возвышающую трансформацию психики, ее подчинение нового уровня требованиям как к носителю критериев. Именно критериальность придает и содержаниям договоренности момент и основание системности, и синтезированию психических механизмов. «Я» становится стабильным, самосохранным, что существенно изменяет характер ответственности, самоорганизации, согласовательного процесса. Возникающее «Я» отрывается от давления динамики ситуативных потребностей, делая заметным эффект социализованности.
При адаптации к бытию деятельности, где нормирование выходит за рамки согласований и становится для исполнителя «отчужденным», в самоорганизации «авторитарность» норм требует более глубокой трансформации психики, выработки более высокого уровня развитости механизма самокоррекционности, готовности к реализации любых требований, рассмотрению требований как «категорических императивов». Эта подчиненность совмещается и с особенностями преобразовательных норм. При нормировании преобразования «чего-либо» появляется потребность учета принципа «реалистичности» норм, т.е. учета самой допустимости требований к преобразуемому, обладающему собственной закономерностью бытия и перехода от субъективного самовыражения к нормировании к вычислению вариантов возможных, допустимых для преобразуемого преобразований с последующим выбором варианта, максимально соответствующего желаемому со стороны нормировщика.
Соотнесение желаемого с возможным, становящегося требующим от притязающего, приводит к эффекту «допустимого желаемого». Такие условия деятельностного мира подчиняют и трансформируют участие человека в этом мире, стимулируют рост субъективности. Это особенно важно в мотивационном слое самоорганизации, так как само «Я» внутри себя разотождествляется, появляется как бы отчужденный слой «требующего «Я», отличающийся от слоя «желающего «Я». Человек устанавливает новый уровень самоотношения. Понимая норму, он в ее содержании выявляет «требующее «Я» и соотносит его с оформленным потребностным образом «желающее Я». Адаптируясь к деятельностным требованиям, осваивая деятельностное бытие человек именно «требующее Я» делает приоритетным, подчиняя свое «желающее Я», в том числе перенося в «зону» желаемого содержание требований с моментом «требующего я». В управленческой позиции вносится необходимость подчинения рамкам бытия исполнительской деятельности и вторичных типов деятельности сервисного характера, совмещая это с потребностями самой управленческой деятельности и пожеланий заказчика.
Социализированность человека становится полноценной при освоении как социокультурного, так и деятельностного бытия. Он проходит путь развития, как отдельных психических механизмов, так и путь совмещения развивающихся механизмов в структурной целостности, а затем системных целостностей, путь проявления «самости», «Я», их совершенствования и развития, в том числе развития механизмов мышления, создания, самосознания, самоопределения, самокоррекции.
Развитие человека в ходе окультуривания. При переходе к бытию в культуре человек сталкивается с критериями высшего уровня, и их содержание обладает высшей абстрактностью как в планах интеллектуальном, мотивационном, так и в иных планах. В каждом из них выделятся свой высший уровень критериальности, требующий своего дифференциального понимания, усвоения, переориентации, перехода к употреблению в согласовательных или разработочных, рефлексивных и т.п. процессах. Так как такие критерии появляются в ходе обобщения, то они несут результаты, следы интеллектуальных процедур и фиксированности высших содержаний, «идей» по Платону. Переход к пониманию и усвоению совмещает интеллектуальное и чувственно-мотивационное постижение, а затем перевод в тип демонстрационных процедур, где вовлекается весь комплекс психических механизмов. Но прямое усвоение невозможно для начинающих проходить путь в культурное пространство. Поэтому создается форма освоения, где культурная «идея» любого типа, из любого слоя дается в натурализированном виде, например, в качестве игры актера в роли Гамлета. Начиная уподобление и постижение, усвоение человек выявляет в демонстрации культурного образца сначала доступное, предкультурное, а затем осуществляет цикл качественного перехода, где есть оба диалектических отрицания. Человек проходит и трудности отрыва от предкультурно-го, и трудности прикрепления к культурному, качественно иному и высокому. По ходу прохождения цикла человек прилагает усилия к самоотстранению от своего достигнутого уровня, подготовке перехода, а затем накоплению возможности прикрепиться своему новому, «культурному Я». Прежнее состояние «Я» разотождествляет-ся и выделяет новое в себе. Этот путь достаточно охарактеризован Гегелем, но требует современного технологизированного и концептуального истолкования в современных языковых средствах.
Тем самым, модели культурного действия, которым стремятся уподобляться проходящие путь в культуру, в себе содержат в качестве основания ту или иную культурную единицу содержательности, содержат «идею», маскирующуюся предкультурными материальными носителями, но подчиненные идее. В зависимости от типа единиц культуры различными становятся и демонстрационные модели.
Духовное развитие человека. Специфика высшей стадии развития человека, духовной, состоит в самоопределении и самоорганизации, где ведущим мотивом является следование высшему, универсумальному предназначению человека. Это означает, что человек задает себе вопрос о высшем предназначении, выявляет его содержание из устройства универсума, опознавая первопричину всего, ее проявление в строительстве «плана» бытия универсума с определением и миссии человека, человечества в универсуме. Тем самым, в поиске высшего уровня «требующего я» человек преодолевает случайность содержательной характеристики «места» (идеи, по Платону) для человека, а также и человечества, подчиняясь механизму саморазвертывания первооснования. Первооснова-ние совпадает с платоновской характеристикой «идеи идей» и гегелевской «абсолютной идеей», начинающей себя развертывать в «план» универсума, а также в ходе самонаполнения и создании функционирующего универсума. В этом же соотносится и обычная практика характеризования «Бога».
Однако установка на соответствие своему предназначению на Земле и в универсуме, на «вписанное» в универсум бытие требует учета индивидуальных особенностей человека, соответствующей типизации и уникализа-ции предназначения. Подобная процедура, а также исходное опознавание законов универсума, свойств первопричины, механизма самораскрытия первопричины и т.п., недоступна реальному человеку, не прошедшему путь обретения высших знаний и высших мотивов, высших форм самоорганизации. Поэтому прихождение к базисной духовной установке, опираясь на приобретение культурных способностей, обеспечивает начало пути сосредоточения внутренних сил на опознавание первооснования, пользуясь помощью наиболее одухотворенных, уже прошедших значимую часть пути, пользуясь ритуалами и условиями, облегчающими продвижение по пути. При этом движение в данном направлении разделяется на моменты и слои интеллектуального, мотивационного и самокоррекционного типов, согласующихся между собой и ведущими к абсолютному синтезу, где акценты на моменты предстают как «лики одного» абсолютно ориентированного «Я». Оно обретает потенциал уподобления и идентификации с первооснованием, способность к поиску ответов на типовые в линии одухотворения вопросы.
Как и в обретении культурных способностей, человек, начинающий одухотворение, сначала уподобляется образцу духовного бытия, а потом и эталону, «считывая» с образца и эталона сначала доступное на уровне культурной самоорганизации. Лишь укрепившись в зоне доступного, осознавая недостаточность его, устремляясь к основанию, собственно духовному в бытии человек выходит на все более высокий уровень соответствия своему, выявляемому предназначению. Иначе говоря, духовная линия жизни состоит в реализации указанной духовной установки, в постепенном нарастании духовного потенциала. Ответ на вопросы об основании всего сначала находится за счет интеллектуальных усилий, а на вопрос о мироотношении, об отношении к первооснованию («Богу», абсолютной идее и т.п.) — за счет мотивационного механизма. Не поняв, в чем суть бытия и как она конкретизируется до сути бытия человека или человечества, нельзя прийти к требованиям к человеку высшего уровня, к «абсолютному Я» и его соотнесению с «желаемым Я» и переходу к коррекции «желающего Я». Для облегчения прихода к запуску и прохождения духовного искания создаются ориентирующие и предписывающие ритуалы, канонические тексты, создаются места для сосредоточения и внутренней мобилизации, например, монастырь.
Формирование экологической культуры. Если формирование способности к неслучайной экологической организации на культурном уровне предполагает формирование и мыслительной культуры, обеспечивающей адекватное мышление в ходе принятия экологического решения с привлечением средств системного и метасис-темного подходов, и мотивационной культуры, обеспечивающей соответствующее самоопределение в рамках экологической установки, а затем и самокоррекционной культуры, стабилизирующей самокоррекционные усилия по следованию требованиям, исходящих из уровня культурных критериальных комплексов, то зависимость достижения успеха в решении экологических задач и проблем от актуализации установки на подчинение части целому, на включаемость части в бытие целого ведет к соподчинению и некоторой иерархизации потенциала культурных способностей. Ведущей становится мотивационная культура, без которой не обеспечивается субъективная устремленность на связь установки на минимизацию вреда, наносимого преобразовательным отношением к реальности, с реализацией возможностей системно-метасистемного анализа. Однако высшие, культурные формы обращенности к системно-метасистемным критериям в ходе принятия экологических решений опираются на возможности мыслительной культуры, использование высшей мыслетехники [8], так как не сформировав культурный уровень в мышлении нельзя достигнуть культурного уровня и в мотивации экологического типа. Кроме того, практическая реализация требований, соответствующих высшим мотивам, непосредственно зависит от сформированности са-мокоррекционной культуры человека.
В то же время, именно принцип включенности части в целое, включенности бытия человека в универсуме ведет к необходимости духовной самоорганизации и самоотношения. В связи с осуществлением действий по критериям экологической культуры самих возможностей трех линий культурности становится недо- статочным и сервисом в привлечении культурных линий самоорганизации предстает духовный механизм, духовная самоорганизация.
Тем самым, формирование экологической культуре предстает как формирование сложного комплекса, включающего то, что относимо к интеллектуальной, мотивационной, самокоррекционной культуры и важных привлечений духовной культуры. При таком понимании установок и целей по формированию экологической культуры выделяется проблема нахождения форм выращивания таких способностей, так как даже формирование культурного уровня представляет собой труднейшую проблему.
Моделирование экологической культуры. Совершенствование деятельности и субъективных способностей к деятельности опирается на подчинение цикла рефлексивной самоорганизации идее «совершенствования». Следовательно, предполагается придание направленности действию рефлексивного этапа цикла, включающего исследовательский, критический и нормативный подэтапы, направленности на приход к эффекту «улучшения» содержания нормы, а затем и качества действий. Чтобы гарантировать рост совершенства возникает потребность слежения, оценки самого рефлексивного звена цикла в рамках установки на сдвиг в сторону более совершенной рефлексии, т.е. более соответствующей установке. Однако определенность сдвигов по содержанию, контролируемость сдвигов и их направленности достигается путем введения и в само рефлексивное звено, и его вторичное рефлексивное обеспечение критериев, прежде всего, по содержанию вносящих ясность различия между менее и более совершенным. Как утверждал Конфуций, чтобы усовершенствовать что-либо, надо знать, что такое «совершенство». Аналогичную проблему ставил и Сократ в придании спорам о чем-либо высокую определенность.
Тем самым, устремляясь к более высокому уровню действий, рефлексивности, проявлений субъективности и роста субъективных механизмов, целостности «Я», проходя этапы все более совершенного цикла рефлексивной самоорганизации человека и его внешней организации, необходимо обладать не только установкой на совершенствование, но и определенностью представлений о поэтапных переходах ко все более высоким уровням, ко все более качественному и совершенному, иметь критериальное представление о «лестнице уровней» и перспективу коррекции исходного процесса совершенствования под особенности каждой ступени и особенности прохождения последовательности ступеней. В связи с этой необходимостью актуальным становится и привлечение потенциала псевдогенетического подхода и метода, диалектической мыслетехники, в основе которой лежит «абсолютный метод» Гегеля. Если в «Книге Перемен» за тысячу лет до Конфуция общая линия неслучайного движения рефлексивной и метафизической мысли в качественных совершенствованиях обозначена, а единицами шагов качественного перехода показаны гексаграммами, то Гегель дал внутреннее обоснование всей лестницы развития «духа» в рамках цикла, т.е. «лестницы» в единице универсумального бытия. Совершенствование предстало как путь роста, завершающийся «сбросом» в начало для потенциального воспроизводства бытия универсума.
Тот, кто переходит к реальному построению пути к совершенному, к более совершенному и при этом размещает себя в рамках культурно-духовного уровня, что соответствует общей основе экологической культуры, должен владеть указанными различениями, чтобы не сохранять потенциал случайности совершенствования, не хао-тизировать этот процесс. Так как мы придаем особую значимость совершенствованию субъективности, выводя ее на культурный уровень с особенностями экологической деятельности и деятельности с ее подчинением идее экологичности, то организатор формирования способностей, соответствующих экологической культуре, должен владеть инструментально выраженным представлением о лестнице развития человека, охарактеризованной выше, применяя ее в контексте поставленных задач на совершенствование и формирование экологической культуры. Мы разработали такое средство, назвав его «пирамидой субъективности», нижний уровень в которой соответствует природному, а высший уровень соответствует духовному уровням субъективности.
В связи с установкой на придание процессу организации совершенствования необходимой неслучайности, определенности возникает линия моделирования и формирующее воздействие помещается в модельное пространство. Моделирование обладает теми особенностями, что организационное воздействие обогащается контролирующим типом коррекций в рамках поставленных модифицирующих задач в пределах намеченного плана поиска ответов на значимые, принципиальные вопросы исследовательского, проблемно-критического или проектно-корректирующего типов. В моделировании осуществляется переход от образца к модели, т.е. трансформированному образцу в рамках его подчинения поисковой цели и задаче, поставленной перед поиском ответа на проблемный вопрос. Поэтому модель позволяет увидеть желаемое в «чистом виде». Если возможности моделирования применяются для целей совершенствования, совершенствуется образец и модель становится воплощением представления о более совершенном под фиксированный критерий. Именно такое моделирование выделилось в конце ХХ в. в пространстве методологии (Г.П. Щедровицкий и др.). В играх вводится имеющийся в практике образец, строится развернутый рефлексивный механизм, обеспеченный мощными средствами методологии, включающими и понятия «развития», «совершенствования» и т.п., обеспечивающий процесс проблематизации и де-проблематизации, а затем образец перестраивается под результаты рефлексии. Тем самым, благодаря рефлексивному механизму, его снабжению фундаментальными средствами языка методологии, удерживающего
Электронное периодическое научное издание «Вестник Международной академии наук. Русская секция», 2013, №1 достоинства многих предметных языков гуманитарной науки и вносящих свой специфический вклад в общий гуманитарный потенциал, прохождение пути совершенствования обретает высокую неслучайность.
В последнее время с учетом интересов моделирования и его диагностического сопровождения мы активно использовали «субъективную пирамиду» как интегральное понятийное средство, раскрывающую «лестницу» субъективного развития с фиксированными «началом» и «концом». Это средство раскрывается с помощью всех накопленных понятийных различий и позволяет оформлять взгляды на сущность человека, включенного во все типы сред, от природной до духовной [3]. Естественно, что игровое моделирование становится базисной формой выращивания экологической культуры, так как эта форма в максимальной степени адекватна механизму развития, совмещающему внутренние усилия развивающегося и внешнее управление развитием в ходе решения игровых задач, подчиненных установке на развитие. Особенность игрового моделирования, выращивания способностей, соответствующих экологической культуре складывается под специфику проблемного поля и проектных установок экологической практики при наличии исходных понятийных различений по теме («экологическая культуры», экологическое мышление, экологическое сознание и самосознание и т.п.).
Диагностика в ходе выращивания способностей к экологической культуре. Общий план формирования экологической культуры включает в себя выявление достаточно типовых образцов экологических действий в практике, переработка их в достаточно насыщенные сущностным содержанием, как материала ситуаций, так и соответствующих способов действия, модели для их внесения в пространство игромоделирования [4]. С учетом типовых акцентов выделятся типология учебных моделей. Общий сценарий такого игромоделирования включает в себя как преодоление случайности в решении экологических задач, а потом и проблем, так и случайностей в рефлексивной самоорганизации с переходом от одного типового акцента к другому: от акцента на содержание задачи на акцент в пользу механизма ее решения с этапами процесса решения задачи, формы процесса и механизма решения задачи. В анализе и поправках процесса, способа, механизма решения экологической задачи предполагается смещение с акцента на собственно получение результата субъективной самоорганизации, субъективного участия в решении задачи, выявления дефицита адекватного самоотношения, проектирование более совершенного самоотношения, а также выделение моментов, линий и слоев субъективного самоотношения. При этом неслучайность этих процедур и получаемых субъективных приращений, модификаций, ведущих к большей развитости, обеспечивается применением критериев субъективной самоорганизации.
Организация и управление психическими изменениями в ходе решения игровых задач по теме предопределяется работой игротехников. Именно они должны быть в достаточной степени компетентными в адекватном применении психологических и иных критериев, способными к реконструкции актуального уровня способностей учеников и учету его содержательности в подготовке и проведении корректирующих воздействий в направленности на достижение промежуточных и конечного результатов игромоделирования — сформированности экологической культуры.
Однако игротехническая работа крайне сложна и обращенность к субъективным коррекциям в рамках целого, проявлениям ученика в ходе решения игровых задач оставляет мало возможностей осознанно, подконтрольно отслеживать динамику субъективных изменений, затруднений и их преодоления. Чтобы уверено вести субъективную самоорганизацию ученика в зону культуры мышления нужна диагностика, портретирование как условие перехода к корректированию. Иначе говоря, необходимы средства диагностического опознавания достигнутого уровня развития, степени гармонизированности: развития психических механизмов, ближайшей и далекой перспективы прихода к нужному уровню развитости.
Диагностические средства могут быть эмпирическими или построенными в рамках использования логики «систематического уточнения», являющейся базой высших форм теоретического мышления. Применение этой логики и принципа псевдогенеза выгодно тем, что критерии «вытекают» из «лестницы развития», извлекаясь из нее по своему содержанию. Кроме того, сама линия уточнения позволяет менять уровни конкретизации и этим количество критериев одного уровня. Чем больше уровень конкретизации, тем больше дифференцированность и число одноуровневых критериев. Их содержание предопределяется возможностями расставления акцентировок на одноуровневом образе. Мы использовали интегральную схему «субъективной пирамиды» и подчиненные ей понятийные схемы, раскрывающие содержание каждого уровня, а затем и подуровней. Так как «пирамида» выражает изменения, рост психических механизмов трех типов, интеллектуального, мотивационного и самокоррекци-онного, а человек входит в различные отношения с другими людьми, различных уровней сложности и типов, то мы ввели версию «критериальной матрицы» с четырьмя линиями, включая линию «общения».
Диагностическая процедура состоит, в исходном процессе, в соотнесении полученного эмпирического материала, в ходе наблюдения и подобных форм изучения, с содержанием критерия. Критерий, в ходе «подведения под понятие», как бы отбирает часть эмпирического материала. С другой стороны, процедура состоит в размещении» частей эмпирического материала в клеточки критериальной матрицы. Если соотнесение позволяет выявить те клеточки матрицы, которые раскрывают главное в содержании материала, а также позволяют построить иерархическую структуру клеточек, несущих существенное содержание, то в соотнесении «выявленного», значимо- го содержания, в ходе использования содержания клеточек может выстраиваться «диагностический портрет» субъекта, сведения о котором подвергаются изучению. Тем более, что сама матрица несет в себе возможность типовых портретов различных по уровню, в зависимости от совмещения разноуровневых фрагментов портретов могут строиться многоуровневые портреты. И тогда фиксируется содержание, касающееся динамики отношений и между уровнями психической развитости. Совместно с «обычной» рефлексией субъективной динамики можно строить версии хода психического развития.
Использование «матрицы» может быть локализованным под те вопросы, которые задает себе игротехник в процессе анализа субъективного участия игроков в решении игровых задач и в рефлексии решения этих задач, в рефлексии особенностей поведения игроков на различных этапах игропроцесса и в различных ситуациях в игровой группе, в групповом общении, в межгрупповом общении и взаимодействии. Сама «матрица» облегчает оформление возможных и желаемых вопросов, придавая рефлексии и диагностике «задачный характер». Локальные заказы на такую аналитику возникают, прежде всего, в условиях выявленности наиболее значительных членов группы, вносящих максимально заметные воздействия и влияние на групповую динамику. Обращение к «матрице» может состояться и в ходе игротехнической рефлексии по материалам рефлексивных наблюдений игротехников.
Помогающими реализовывать установку на диагностическое исследование предстают и иные средства, в том числе специальные анкеты. Их значимость увеличивается, если они подчинены исходной базе выделения критериальных содержаний — «субъективной пирамиде». Обработка таких анкет может давать предварительный образ, портрет состояния развитости на одном или нескольких уровнях. Этот образ облегчает приход к более подробному анализу, в том числе и в ходе применения достаточно сложных анкет.
Следовательно, диагностическая работа игротехников и обслуживающих их выделенных диагностов — исследователей имеет разные уровни сложности процедур, включает применение средств разного масштаба и сложности. В этих процедурах главным и делающим результат выступает интерпретация полученных данных и их оформлений, что предполагает свободное владение имеющимися понятийными средствами. В то же время сами процедуры фиксации и оформления материала характеристик изучаемого «объекта» подчиняются исходному представлению о генезисе, пути выращивания способностей на уровне культуры в механизме рефлексивной самоорганизации проходящего путь к экологической культуре.
Модели развития экологической культуры. Когда говорится о развитии экологической культуры человека, специалиста и т.п., то имеется в виду поэтапность качественных изменений в рамках культурного уровня и применительно к особенностям экологической деятельности, мышления, рефлексии, сознавания, само-осознавания, самоопределения, воли и т. п. Диалектика овладения каждым новым уровнем предполагает прохождение этапов первого и второго отрицания. В «Книге Перемен» каждая гексаграмма включает в себя шесть пунктов и этим более дробно описывает цикл диалектического перехода. Но даже при вхождении в любую новую деятельность, в иное нормативное поле предполагается и понимание, и принятие нормы, и адаптация прежнего потенциала способностей к новым требованиям, их соответствующий рост, если прежние способности недостаточны (Л. С. Выготский, Л. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин и др.). В случае вхождения в качественно новый уровень подобные моменты обрастают дополнительными сторонами, учитывающими другой уровень трудностей обеспечения внутренней адекватности для новых требований. Во всяком случае, сначала человек пытается и понять, и принять, и действовать по норме «по старому», что ведет к ошибкам, затруднениям. Обладая внутренней устремленностью к решению поставленных задач, человек осуществляет рефлексивный анализ причин затруднений, открывает для себя новые перспективы и делает повторные попытки. Лишь позднее он рефлексивно осознает особую роль своей неготовности, неспособности и переходит к самокоррекции не столько в поведении, т.е. «как обычно» в этих случаях, а к самоизменениям, к отходу от значимости прежнего состояния способностей, к коррекции способностей и введению значимости иного состояния, к усилиям в реализации проекта измененного состояния «Я». Подготовившись в самоизменениях, он возвращается к решению задачи и успешно ее решает.
Естественно, что масштаб самоизменений при вхождении в культурный и тем более, духовный уровень принципиально другой, чем изменения при вхождении в предкультурные уровни, хотя значимость предшествующих внутренних изменений не отрицается, удерживается. Если рассматривать интеллектуальный механизм, мышление, обеспечивающие его сознание, самосознание, самоопределение и волю, то его содержательность в слое семантической группы факторов резко отличаются от содержательности в логическом и онтологическом слоях. Как показывал Кант, вносится принципиальная априорность оснований, а Гегель подчеркивал роль всеобщности оснований, их антипрагматичности, что соразмерно переходу к «идеям» Платона или к соприкосновению и опоре на «Небо» у Конфуция, на буддистскую «пустоту», доносящую до нас основания славяно-ариев. Адекватной абсолютной основе самоорганизаций владели наши предшественники, жрецы и волхвы. Но они обладали особой экстрасенсорной склонностью и адаптацией, идентификацией к абсолютному. Другие имели лишь соприкосновение и предварительный потенциал адаптивности, хотя и достаточный для осознанного следования советам «Посвященных», профессионалам интеллектуально-духовного уровня самоорганизации.
Следовательно, когда говорится о «развитии» экологической культуры и любой культуры применительно к человеку, имеются в виду качественные микропереходы, обладающие той же формой циклов качественного роста, но в стратегической рамке полного вхождения и полной адекватности достигающих предварительных, закрепляющих, углубляющих т. п. этапов единого пути в новом уровне. При всей сложности и относительности окультуривания, одухотворения на этих микроэтапах человек реализует, чаще не полностью, «проект созидания человека», так как его сущность, прежде всего, лежит в духовности, в предназначенности быть сотворцом в универсуме, «сотрудником и соратником» первопричины всего. Экологическая культура человека, как требование времени, как условие отхода человечества от последнего рубежа у пропасти, как условие преодоления цивилизационного кризиса наиболее близка к зову времени. Однако ее проектно-реализационное оформление и реализация связаны с огромными реформами в общественном бытии, способах организации жизни, в образовательном пространстве, от которого зависит само появление достаточного числа людей, осознающих цивилизационный кризис и устремляющихся к его предотвращению. Наряду с этим качество образования и сохранность его следов в обществе в целом обретают импульс к быстрому сокращению разрыва между реальным и должным положением, соответствием предназначению.
Следовательно, модели развития экологической культуры создаются применительно к организации процессов прохождения последовательности этапов, микрошагов цикла обретения культурности и духовности в рамках экологической деятельности, а также к оформлению учета особенностей типов субъективности, вовлекаемых в процесс окультуривания и одухотворения.
Список литературы Экологическая культура мышления: моделирование развития
- Анисимов О. С. Рефлексия и методология. -М., 2008.
- Анисимов О. С. Сущность человека: поле проблем. -М., 2009.
- Анисимов О. С. Игромоделирование, игротехника, развитие. -М., 2009.
- Анисимов О. С. Структура, система, метасистема. -М., 2011.
- Анисимов О. С. Философия познания: бытие и метод. -М., 2011.
- Анисимов О. С. Структура. Система. Метасистема. -М., 2011.
- Анисимов О. С., Глазачев С. Н. Модельные аспекты формирования эколо-гической культуры личности//Вестник ГУУ, 2011. №16, С. 4-9.
- Анисимов О. С. Мышление: сущность и развитие. -М., 2012
- Анисимов О. С. Культура и духовность в мышлении стратега. -М.,2012.
- Анисимов О. С., Глазачев С. Н. Экологическая культура: сущность и пути формирования в рамках профессионального образования//ЭПНИ «Вест-ник Международной академии наук. Русская секция» (Электронный ре-сурс), 2012. №2: 14-26. Режим доступа: http://www. heraldrsias.ru/online/2012/2/230/
- Глазачев С. Н. Сохраним ценности экологической культуры//Начальная школа. 1998. № 2. С. 13.
- Лефевр В. А. Рефлексия. -М., 2003.
- Щедровицкий Г. П. Мышление, понимание, рефлексия. -М., 2005.