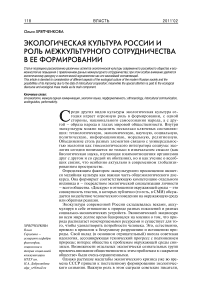Экологическая культура России и роль межкультурного сотрудничества в ее формировании
Автор: Хряпченкова Ольга Сергеевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 2, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению различных аспектов экологической культуры современного российского общества и возможностей ее повышения с привлечением данных межкультурного сотрудничества; при этом особое внимание уделяется экологическому дискурсу и экологической журналистике как его важнейшей составляющей.
Этноэкология, межкультурная коммуникация, экология языка, перформативность
Короткий адрес: https://sciup.org/170165709
IDR: 170165709
Текст научной статьи Экологическая культура России и роль межкультурного сотрудничества в ее формировании
С реди других видов культуры экологическая культура сегодня играет огромную роль в формировании, с одной стороны, национального самосознания народа, а с другой – образа народа в глазах мировой общественности. Внутри экокультуры можно выделить несколько ключевых составляющих: технологическую, экономическую, научную, социальную, политическую, информационную, моральную, религиозную. Объединение столь разных элементов связано с универсальностью экологии как гносеологического интегратора социума: экология сегодня понимается не только в изначальном смысле (как биологическая наука, изучающая взаимоотношения организмов друг с другом и со средой их обитания), но и как учение о всеобщих связях, что особенно актуально в современном глобализированном пространстве.
Определяющим фактором экокультурного просвещения является медийная культура как важная часть общеэкологического дискурса. Она формирует соответствующую компетенцию отдельного индивида и – посредством экологической социализации личности – всего общества. «Дискурс» в отношении окружающей среды – это совокупность текстов, в которых публично (то есть, в СМИ) обсуждается воздействие человеческого поведения на окружающую среду или обратная реакция.
ХРЯПЧЕНКОВА Ольга
Сергеевна – аспирант кафедры философии, социологии и теории социальной коммуникации НГЛУ им.
Экокультура современной России складывалась веками, аккумулируя в себе отношение к природе разных поколений и разных социально-экономических устройств. Экономический экодискурс во всем мире долгое время базировался на мнении о том, что природа располагает неисчерпаемыми ресурсами и существует для того, чтобы удовлетворять потребности человека. Это, естественно, привело в прошлом к бездумному разрушению и истощению природы. Свой вклад (в основном отрицательный) внесла советская идеология, ассоциирующая технический прогресс с подчинением природы; интерес общества к проблемам окружающей среды снизился. Возможности отдельных экологически сознательных групп привлечь внимание общественности к этим проблемам в «закрытом обществе» были очень ограниченными.
Однако растущие масштабы экологического кризиса уже во времена СССР привели к постепенному формированию экологического сознания. Важную роль в этом сыграли советские писатели, делавшие художественный текст средой для пропаганды экологически ориентированных идей.
Экологическая журналистика в России не просто информирует, а побуждает получателя текста к активным действиям, стремясь к установлению личного контакта с аудиторией. Экожурналист завоевывает доверие читателя, получает определенную власть над ним и использует ее для реализации своего намерения. Согласно концепции П. Бурдье о «власти говорящего», власть языка обусловливается верой социальных акторов, на основе которой они признают легитимность уполномоченного языка и компетенцию говорящего. Посредством языка можно не только описывать и констатировать явления социальной действительности, но и напрямую формировать социальную практику. Это явление Бурдье называет перформативной магией, используя введенное Дж. Остином в рамках теории речевых актов понятие перформативного высказывания, производство которого уже является осуществлением действия1. На наш взгляд, эта концепция близка к идее символичности П.А. Флоренского как конкретной выраженности ноумена в феномене, духовного в чувственном2.
Таким образом, от успешной реализации говорящим (экожурналистом) своей власти (апеллятивной функции экожурналистики) зависит возможность перехода социальных акторов (получателей экотекста) на более высокую ступень их (экологической) социализации. Это касается и информативной, и рекламной экожурналистики.
Экокультура каждой страны, в т.ч. и России, являясь неотъемлемым элементом жизни общества, не может формироваться изолированно, автономно, в отрыве от общемирового информационно-коммуникативного континуума, в котором всегда имеет место взаимодействие, обмен опытом, преемственность культур, желание сравняться с другими государствами в экологическом развитии. Экокультура России впитывает в себя элементы других, более развитых обществ. Чем больше среднестатистический российский потребитель слышит о внедрении современных экотехнологий в США, Германии, Австрии и т.д., тем больше он заинтересовывается ими.
Узнать об экотехнологиях других стран российский потребитель может посредством условно существующего канала межкультурной коммуникации, играющего важную роль в обмене экологическим опытом между государствами. Межкультурная коммуникация – это процесс обмена символами между культурами, облеченными в большинстве случаев в языковую форму. В процессе взаимодействия культур межъязыковой канал выполняет репрезентативную функцию по отношению к межкультурному.
Использование канала межкультурной коммуникации может происходить как непосредственно – в устной коммуникации, так и опосредованно – в письменной, в частности в медийной среде. На наш взгляд, второй вариант более эффективен, так как потребители больше доверяют письменно закрепленной информации. Поэтому желательно, чтобы журналист, пишущий об экологии, знал иностранные языки: с их помощью он может сделать доступными для широкого круга читателей (в первую очередь, для тех, кто не владеет иностранными языками) те идеи и технологии, которые в России пока еще неизвестны. Информационная революция второй половины XX в. вызвала рост доли СМИ в информационно-коммуникативном взаимодействии между людьми, изменила их образ жизни, социальные механизмы, обеспечивающие функционирование коммуникативного пространства населения планеты3.
В медийной реализации канала межкультурной коммуникации на первый план выходят вопросы перевода как процесса межъязыковой кооперации. Приведем пример: в Германии есть понятие Mehrwegflasche (f) – «многооборотная бутылка» (стеклотара многоразового использования. Подлежит возврату взамен залога в предназначенных специально для этого аппаратах. Подвергается обработке промыванием и возвращается в производственный цикл в исходном ви- де, полностью сохраняя свои функции) и понятие Pfandflasche (f) – «залоговая бутылка» (подлежит возврату взамен залога. Подвергается дальнейшей утилизации, вследствие чего полученный пластик применяется при производстве новых изделий, возвращаясь в производственный цикл). Соответственно, немецкий язык принимает это различие и обеспечивает его словесной базой, пользуясь своей компетенцией. Российское общество может заимствовать это различие, пользуясь изначально данными языка и перевода как посредника между языками. Термины такого типа называются временно-безэкви-валентными, так как соответствие в другом языке отсутствует по причине неравномерного развития технологий в разных социумах. Впоследствии эта неравномерность обычно стирается, и термин приобретает эквивалент1. Мы называем эти термины «консеквендами» (лат. consequendus, -a, -um – тот, за которым следуют) и выдвигаем гипотезу, по которой с помощью консеквендов можно регулировать общественное развитие и сознание. Дело в том, что возможен вариант развития событий не только от социума к языку, но и от языка к социуму, когда от судьбы консеквенда при его переходе в термин другого языка зависит судьба стоящего за ним объекта социальной реальности. Это объясняется и высокой концентрацией энергии в этих словах, их особенно сильной перформативной магией. Энергия слова аккумулируется целыми поколениями людей, использующих его не только в процессе коммуникации с другими членами сообщества, но и в процессе своей когнитивной, мыслительной и аксиологической деятельности. Постоянное вбрасывание в медийный дискурс консеквендов на экологическую тематику в виде продуктивной общественной установки может закрепить их в общественном сознании россиян.
Российскую экокультуру невозможно рассматривать в отрыве от этнофилософ-ского аспекта, от этнологии, этноэкологии, этнопсихологии, этнолингвистики. Каждый этнос требует особого подхода, особых механизмов воздействия. Этнические особенности во многом определяют характер экологического пространства в том или ином государстве. Не случайно на стыке этнологии и экологии образовалась новая дисциплина – этноэкология, изучающая взаимоотношения человека с окружающим миром, представления об окружающем мире в рамках традиционной культуры, влияние культурных установок на современные взаимоотношения природы и человека.
Так, российский менталитет сильно отличается от немецкого, и это нужно учитывать, например, при рекламировании произведенных в Германии товаров. Немецкие производители могут взывать к потребителям, используя любовь последних к порядку, структуре («просто потому, что так надо»), тогда как в России этот путь обречен на поражение. Нашему народу нужно объяснить, в чем конкретно он выиграет, если воспользуется этим товаром, и как ухудшится его жизнь, если он этого не сделает. Пристрастие к порядку у немцев привело к сильной позиции энвайроментализма (движения, которое выражается в осознании скудости природных ресурсов и обеспокоенности негативным воздействием потребления и маркетинга на окружающую среду и которое заботится о защите и улучшении среды человеческого обитания, в т.ч. экономическими методами), особенно в том, что касается переработки отходов. Немцы воспринимают гору мусора, в которой перемешаны различные типы отходов, как отступление от закона. А вот гора отходов одного типа оценивается далеко не так негативно, потому что сортировка мусора – это своего рода восстановление порядка, утраченного потребителем в процессе использования продукта2. При этом не следует забывать, что российский потребитель гораздо менее экологически образован, чем потребитель в Германии, поэтому к нему сложнее апеллировать. С другой стороны, жителям нашей страны свойственна определенная внушаемость, нужно лишь делать это под правильным углом.
В XXI в. Россия должна жить по-новому, перенимая у других стран лучшее из того, чего они смогли достичь, и делясь с ними тем, что смогли понять и получить мы. Только вместе, в сотрудничестве, мы можем сделать нашу планету лучше.