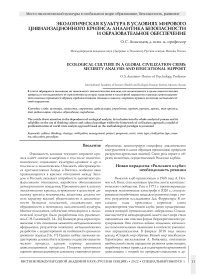Экологическая культура в условиях мирового цивилизационного кризиса: аналитика безопасности и образовательное обеспечение
Автор: Анисимов О.С.
Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) @vestnik-rsias
Рубрика: Место экологической культуры в глобальном мире: образование, безопасность, развитие
Статья в выпуске: S1, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье обращается внимание на зависимость экологического анализа, его включенности в целое аналитического процесса и его надежности от применения культуры мышления и культурной парадигмы в рамках цивилизационного подхода; приводится образец проблематизации подхода к анализу мирового кризиса на основе методологической парадигмы.
Культура, мышление, стратегия, цивилизация, управление, проект, прогноз, кризис, тип кризиса, тип цивилизации, страна, образование, парадигма
Короткий адрес: https://sciup.org/143179419
IDR: 143179419
Текст научной статьи Экологическая культура в условиях мирового цивилизационного кризиса: аналитика безопасности и образовательное обеспечение
Очевидность влияния текущего мирового кризиса имеет многие измерения, в том числе политэко-номическое, социальное, культурно-духовное и др., в том числе и экологическое. Опасность обостряющегося противостояния Запада и Востока, особенно явно проявляющегося в кризисе отношений между Западом и Россией, вызывает потребность адекватного рефлексивного отношения, выработки обоснованного антикризисного поведения. Применительно к аспекту экологического кризиса, встроенного в целостную динамику кризиса человечества, аналитика должна носить характер высшей убедительности и доказательности базисных положений, следовательно при обращенности к потенциалу мыслительной культуры. Многие положения, собственно относящиеся к экологической культуре, были разработаны под руководством С. Н. Глазачева [8, 14–16]. Большую роль играло привнесение в эти основания моментов методологического оформления, результатов новейших методологических разработок с акцентировкой на особенности цивилизационного подхода [16, 17]. Однако любые значимые акцентировки должны быть встроены в единство аналитического процесса, единую картину динамики цивилизационных процессов. Попытки критически оценить цивилизационную динамику становятся разно- образными, демонстрируя специфику аналитических инструментов и самих образцов организации процессов раскрытия кризисных явлений. Свою роль играет и образец аналитики, осуществленный Римским клубом.
Новая парадигма «Римского клуба»: необходимость ревизии
Римский клуб организовали в 1968 году А. Печ-чеи и А. Кинг, став мозговым трестом элиты капиталистического сообщества. Уже в 1971 г. прогнозировалась мировая экологическая катастрофа в 2020 г., стимулированная ошибочными моделями развития мира с учетом результатов исследования Дж. Форрестера. В последние годы произошла коренная смена мировоззрения участников клуба, ранее придерживавшихся позиций ортодоксального либерализма. Созданные институты международной власти элит мира стали оцениваться как опасная форма бюрократического регулирования. Они считали войны, эпидемии, катаклизмы положительными явлениями в контексте уменьшения народонаселения. В феврале 2018 года вышел доклад «Старый мир обречен. Новый мир неизбежен». Характерны высказывания А. Вийкмана, считавшего необходимой смену парадигмы развития цивилизации, выработку новых правил для планетарной гармоничной цивилизации с опорой на природно-социальное и ду- ховное мировоззрение. Он призвал к сотрудничеству все категории общества.
Однако надежность критики прежних и выдви- жения новых парадигм зависит от качества осуществляемого мышления. Применяемые средства и методы следует анализировать в первую очередь. Такая критика осуществлена в рамках методологической парадигмы [8, 10, 11]. Рефлексия процесса разработки рекон- структивных и прогностических, а также проектных моделей мировой динамики позволяет прийти к тех- нологически значимым выводам:
й математическое моделирование динамики социальных систем, с учетом эмпирических образов и описаний реальных исторических образцов таких систем, придает высокую определенность первичным смыслам в ходе их замещения языковыми выражениями на базе аксиом математики, что способствует преодолению неопределенности и случайности, присущих динамике макросистем общественного типа;
й такое моделирование опирается на возможности принципиально различных языков, строгого математического и слабо определенного гуманитарного (однопредметных и полипредметных синтезов парадигм), а их семантики слабо совместимы;
й при математическом моделировании выделяются аспекты, акценты в смысловом материале гуманитарных содержаний, в том числе с использованием экспертных оценок значимости фрагментов, а затем вводятся аксиоматические средства строго языка и осуществляется формально ориентированный синтез дифференциальных составляющих, в зависимости от идей конструктора заместителя, с последующими содержательными трактовками;
й при оформлении в модельных конструктах соотношения моментов «качества» и «количества» в содержании преобладает момент «количества» с утерей «качества», сущностных особенностей социальных систем, содержательно-факторное синтезирование не позволяет удержать, выразить «механизмы» этих систем, их «органическое» бытие, подчинение критерию «объектной целостности», в том числе воспроизводство и развитие систем, особенности типов систем и типы их взаимодействия;
й при анализе цивилизационной динамики особую значимость обретает содержательно-сущностное совмещение разнородных механизмов (социального, политического, экономического, культурно-духовного и т. п.) в синтетический механизм страны в рамках того или иного цивилизационного типа. Поэтому высокая формалистичность математических моделей и их смысловая гуманитарная трактовка составляют «диалектическую» противоположность, разрешение которой составляет проблему языкового обеспечения аналитического процесса.
Тем самым, выделяется потребность в создании языковой парадигмы, совмещающей достоинства строгости, определенности единиц и синтаксических и грамматических конструкций с достижением содержа- тельности объектных, целостных, семантических конструктов.
Учитывая специфический опыт введения содержательных, семантически ориентированных конструктов в методологии, схем «изобразительного» типа («схематических изображений») в качестве символических средств мышления, организации процессов конструирования «идеальных объектов», понятий и концептов, придания СИ (схематических изображений) — формы специального, «объектного» языка [19], инициативной группой под руководством Анисимова О. С. (автора языка СИ) предлагается гипотеза: в основу разрешения указанной проблемы можно ввести принципы языкового моделирования макросистем цивилизационного типа и создания устойчивой парадигмы ЯСИ (язык схематических изображений) для решения задач и проблем цивилизационной аналитики. Оправданность такой гипотезы опирается на опыт аналитических процедур методологического сообщества ММПК (Московский методолого-педагогический кружок) [1, 12, 13].
Методологические основания «нового понимания» мировой динамики в 21 веке: необходимость и достаточность?
Для придания практичности данной уверенности можно учесть не только множество имеющихся публикаций ММПК, но и содержательно-технологическую оценку публикации В. А. Садовничего, А. А. Акаева, И. В. Ильина, А. В. Коротаева, С. Б. Малкова «Моделирование и прогнозирование мировой динамики в XXI веке» [20], посвященной реакции на меморандум Римского клуба. Присмотримся к основным положениям публикации: «Мир быстро меняется, в XX в. темпы демографического и экономического роста достигли беспрецедентно высоких значений. В докладе Римскому клубу в 1972 г. было показано, что если человечество будет развиваться инерционным образом, то неминуемо произойдет катастрофа, связанная с истощением ресурсов, обострением экологических проблем, нехваткой продовольствия и т.п. Однако с 70 х гг. началось резкое торможение глобальных демографических процессов и экономических характеристик. Демографические прогнозы предсказывают быструю стабилизацию и даже резкое снижение численности населения, при определенных условиях. Что ожидать в будущем? Доклады Римскому клубу опирались на математическую модель «Мир-2». Дифференциальные уравнения описывают динамику глобальных переменных, опираясь на эмпирические данные несколько десятков лет, а также на экспертные оценки. Но нет социального блока. Есть набор графиков, который не позволяет выявить понять картину в целом, выявить ключевые параметры. Учитывая ситуацию, ее изменение, необходимо перенастраивать модели, осложняя достижение преемственности версий. Нужно учитывать политические, социальные факторы. Подход в модели «Мир-3» неудовлетворителен, и он должен быть модифицирован».
Итак, Римский клуб рассматривал экономическую и демографическую динамику в соотнесении с ресурсным обеспечением человечества, экологической динамикой, продовольственным обеспечением и т. п. Но можно было привнести динамику социальную, политическую, научнотехническую, идеологическую, культурно-духовную и др. Все разнородные сведения должны были привести к единому взору на динамику человечества. Однако содержания были материалом для мышления, и тогда следовало организовать мышление как порождающее «Мир», рассматривать мышление не как впитывающее бесконечное множество данных, а как «мир», обладающий, в рамках мышления, своей «независимой» от случайности активности мыслителя, динамикой с изменениями состояний наподобие изменения состояний организма. Этот «организм» как идеальный, мыслительный объект должен двигаться «самостоятельно», и следя за этим движением, нужно лишь усматривать внутренние и внешние факторы смены состояний. Тем самым, вопросы к такому организму проистекают из особенностей организма, и ответы — из его динамики. Мыслитель, ученый отдает мыслительный объект управленцу, помогая ему понять объект, правильно «считывать» у него динамику и видеть возможное будущее при введении предполагаемых внешних условий, наподобие рассмотрения сценария бытия на сцене, на сцене мышления как особого театра.
Однако такого типа мысли мы не видим, так как нет создания «самодвижущегося» объекта, помещенного в пространство мыслительного театра. Есть дообъект-ная конструкция структурного типа, не могущая двигаться в мыслительной истории и зависимая от воли синкретического конструктора и возможностей его случайных интерпретаций. Подхватывая набор новых сведений, мыслитель деформирует конструкцию, не «спрашивая» у нее, что может быть в последующий период, так как она не «живая», не может отвечать и зависит от манипуляций конструктора.
Что предлагается группой авторов в МГУ?:
«Происходящие в мире изменения должны рассматриваться в историческом контексте, «долгосрочно» в контексте макроисторического развития; в качестве важнейшего фактора истории рассматривать технологическое развитие, влияющее на все сферы жизни, учитывая, что такое развитие происходит рывками и создает неравномерность исторического процесса. Объектом моделирования и исследования являются базовые процессы, взаимодействие сфер жизни и важнейшим в моделировании выступает логика долгосрочной динамики. Результаты следует представлять не в виде графики, а фазовых портретов, отражающих картину в целом, выявляя «параметры порядка», ключевые факторы, характеристики устойчивости развития на этапах истории. Строится когнитивная схема, отражающая взаимодействие сфер, затем вводятся базовые уравнения, их модификации. Однако проблемным стала чрезвычайная многопа-раметричность, стремление учесть разнообразие деталей. Поэтому необходимым стало снижение уровня размер- ности системы базовых уравнений, выделяя наиболее значимые процессы для долговременной динамики, разделяя «быстрые» и «медленные» переменные» [20].
Учет фактора историчности и долговременности может быть эмпирически-созерцательным и теоретикоконструктивным, что опирается на слежение за динамикой идеального объекта. Если «устройство» такого объекта включает индустрию, технологическую сферу, мир деятельности, и выявляется инициирующая, особо влияющая ее роль в судьбе целого, а динамика влияния, имеющая неравномерность движения, качество движения целого, то остается лишь дать объектное видение сферы и межсфер-ных отношений. Так как идеальный объект заменяется «моделью», то модели следует дать объектные черты, преодолевая стихию схематизации массива эмпирических данных. Базис выступает здесь результатом конструирования, а не переносом из массива материала. В классической философии раскрыто различие созерцательного и конструктивно-мыслительного подхода и технологии мыслительной работы ученого, апостериорного и априорного в механизме мышления, познающего мышления.
При организменном конструировании выявляется и основание целостно-динамического видения, «логики движения», которая в прагматическом изображении в позиции управленца предстает в виде «стратегии», реконструктивной или проспективной, возможной для идеального объекта и потому считающейся реалистической. Только идеальный объект даст основание считать портрет состояния объекта целостным. Если эмпирический материал может быть подведен под него, «отождествлен», то гипотеза конструктора может считаться «истинной». Непринципиальные расхождения не являются поводом для отстранения используемого идеального объекта. Так, можно согласиться с фазовыми портретами, в которых видны внутренние факторы «ключевого» типа и внешние условия порождения анализируемого состояния. Тем самым, имея идеальный объект, можно его «спрашивать» о допустимых состояниях, в том числе в контексте длительных, но допустимых изменений. Можно рассматривать и весь цикл такого объекта, от становления до разрушения.
Авторы выделили наиболее значимые сферы и отношения между ними (климат, природная среда; экология; технология; демография; экономика; социосфера, политика, госуправление). Можно согласиться с этим, в рамках экспертного отношения. Но эти сферы должны быть объектно раскрытыми и объектно взаимозависимыми, представляя «организм» страны. Представленные зависимости в сферах соответствуют результатам эмпирической схематизации, а не объектного конструирования в мышлении.
Для того, чтобы преодолеть эмпиризм в конструировании, обращенности в прошлое и в будущее, необходимо иметь в каждой сфере части как идеальные объекты, проявляющиеся в своих доступных состояниях, т.е. иметь априорные конструкты системно-объектного типа, введенные в доступные для каждой сферы отношения, по- рождающие состояния сферы, как благополучные для воспроизводства и развития, так и неблагополучные, ведущие к дестабилизации, деградации и перспективе разрушения. Но это значит, что все составляющие сфер и межсферного целого проработаны не в технологии эмпирической схематизации, а в технологии теоретического, априорного конструирования по критериям диалектики бытия, онтологии, следовательно, критериям не научным, а философским, логико-онтологическим. Все сферы должны быть функционально различными, хотя и привлекающими потенциал друг друга. Это предполагает и наличие объектнозначимой типологии воздействий и реагирований различающихся типов объектов в рамках страны или цивилизации, в том числе в глобальной цивилизации.
Тем самым, эмпирические формы слежения за динамикой противоречий, становления и укрепления воспроизводимой стабильности, переводом на более высокие уровни развитости или снижением уровня и деградацией не обладают убедительным и доказательным потенциалом, надежностью мыслительных фиксаций и интерпретаций, опознанием неслучайности роли таких факторов, как партийное воздействие или активные проявления разного типа лидеров.
Эмпирический и теоретико-сущностный подходы в анализе социально-политических трансформаций
Если учесть функциональное понимание политики как служение достижению блага для всех в государстве, что было очевидным во времена Платона и Аристотеля, то наличие реальности эгоистических устремлений к обладанию властью над целостным бытием страны и общества в ней, обычное в исторической динамике, дает повод считать политику «искусством» манипулирования в управлении ради явных и скрытых интересов, личных или групповых, в том числе и партийных.
Склонность к таким интерпретациям характерна для эмпирической рефлексии, опоры на созерцаемое с игнорированием существенного в исторической динамике, тогда как существенное, по критериям мудрости, всегда остается не созерцаемым, а только мыслимым. Эмпирические трактовки и реальных сюжетов, и созерцательных версий прошлого, настоящего, будущего не ведут к опознанию подлинных причин и следствий в историческом процессе, подлинного вклада активных действующих субъектов в политике, какими бы популярными и даже «высокими» терминами не маскировался эмпиризм аналитики. Требуются соответствующие политической функции идеальные объекты, раскрывающие сущность разработки, принятия и реализации политических решений, для страны — государственных решений как типа макроуправления. Выделение лидеров, вождей, элиты и контрэлиты должно быть осуществлено и оценено по критериям миссии, функции, сущности политического управления.
Акцентировка на анализе механизмов глобальных процессов и их динамике, построение фазовых портретов адекватна установке на целостность получаемых картин, предполагает наличие организмически значимых причин, оснований для основанного. Однако материалом для суждений остается не бытие самих «организмов» социального типа, а их внешняя проявленность. Но косвенность отношения к причинам остается основной в организации мышления в анализе. Чтобы перейти к непосредственно основаниям, первопричинам, следует мыслительно конструировать «объекты», для науки — «идеальные объекты», социум, общество, государство, страну, цивилизацию, мировое сообщество.
Тем самым, «портреты» целого в его исходном первоосновании, дедуктивное выведение портретов состояний следует рассматривать в качестве приоритетных целей аналитики, чтобы иметь сущностно ориентированные версии «невидимого» в общественной динамике. Это позволяет придать существенность тому, что авторы считают фазовыми портретами и их изменениями в различных условиях. Прозрачность и упрощенность картин заменяется в переходе от эмпирического подхода к теоретико-сущностному неслучайным выражениям, контролируемым не созерцательной очевидностью и талантливостью интерпретатора эмпирических конструктов, а объектно-сущностной неизбежностью, в пределах самой теоретической версии. Тем более, что Гегель подробно показал приход к такой неизбежности, дал «дорожную карту» освобождения от случайности мысли.
Соотношение «общего» и «всеобщего» выступает базисом кооперации позиций научного теоретического обобщения и наднаучного, «надпредметного», философского обобщения, преодолевающего интересы полезности, эффективности, историчности ради сократовской истинности. С другой стороны, и в практике управления требуется высшая надежность и ответственность, особенно в стратегических формах управления и принятия решений. Платон, Конфуций и др. древние учителя призывали высших, «государственных» правителей соответствовать интересам истины, требованиям Бога, Неба. Это позволяет снижать роль рассогласований, противопоставлений, междоусобицы, кризисов, революций и т.п., дорого обходящихся народам. Поэтому ценность «всеобщего» в управленческом регулировании становится опознаваемой и в принятии антикризисных решений и решений о развитии, особенно ускоренном развитии, предполагает опору на онтологические критерии, на применение «разумного метода» гегелевского типа. Неслучайно, что рассуждения Платона, Аристотеля, Августина и т. п. о благе, о справедливости, о божественности человека в рамках универсума, о разумности общества и т. п. насыщались высотой категорий, разумной логичностью и ориентирами надпрагматического уровня. С это высоты, например, при сравнительном анализе преобразовательной практики в доиндустриальный и индустриальный периоды бытия человечества выявляется роль критерия «отчужденность — неотчужденность».
При переходе от «разумности» аграрной эпохи обществ к эпохе индустриальной базисным предстает от неотчужденной к отчужденной форме практики, организации совместной деятельности, от приоритета «семьи» к приоритету «трудового коллектива» на предприятии. Глубина преобразований в социуме, в политике, в идеологии и т.п. связана с уровнем отчужденности. Разумное общество, при наличии момента отчужденности в индустриальном обществе, должно иметь механизм нейтрализации отчужденности, возвращая гармонию неотчужденности на более сложном уровне. Инновационная динамика имеет свои «разумную» и «неразумную» модификации. Сама по себе регистрация модификаций доступна в эмпирическом подходе, а неслучайность типов сочетаний моментов в истории выявляется только в преодолении эмпирической технологии мышления. Это касается и национальных, и межнациональных, и глобальных масштабов динамики социальных систем.
Тем самым, если мы определили состояние воспроизводимого в течение определенного времени общества, актуальность всех его частей, «органов» единого «организма», состояния в рамках всех функциональных мест в «едином», то логика исторической динамики подсказывает, что смена состояний либо модифицирует содержание всех «наполнений» функциональных мест, либо дополняет иными типами морфологии общества, но в пределах тех же функциональных мест. Динамика исторического процесса раскрывается в своей полноте при следовании гегелевскому методу, в диалектике «псевдогенеза». Она имеет две координаты: горизонтальную, для аналитики состояний объектов, и вертикальную, для аналитики качественных изменений состояний в развитии или деградации. Тем самым, в двухкоординатной диалектике раскрывается весь цикл бытия объектов и универсума в целом. Исходя из этих ориентиров, в постигающем мышлении мы должны иметь диалектические единицы разных масштабов, для частей страны и страны в целом, с усмотрением типологии стран, иметь диалектическую единицу масштабов глобальной цивилизационности и частей как типологически различных цивилизационных единиц. Это касается и более конкретного уровня — «стран» и «типов стран». авторы добросовестно фиксируют заметные тенденции в изменениях мирового процесса без учета локальных особенностей, типов стран и цивилизаций.
Суммарно тенденции дают возможность строить предварительную картину с функциональными фрагментами, касающимися разнородных сфер, и заметными взаимозависимостями. Наиболее заметным выступает динамика цивилизационного глобализма при ведущей роли наиболее развитых стран, интенсивно инициирующих развитие информатизации, кибернетизации, коммуникации, сетевизации, идеологизации и т. п. в рамках своих, прежде всего — эгоцентрических интересов. Опираясь на технологическое превосходство и идею монополярности, идеологически оформленную спекулятивную манипулятивность, они под руководством своего капиталистического гегемона США, выстраивают структурно-эгоцентрическую иерархию, способствующую глобальному контролю за ресурсами, потенциалом индустрии материального и информационного типов и подчиненную росту прибыли, исходного основания всех форм господства.
Авторы не выделяют базисные «мотивы» иерархизированного «Запада» и объективным изложением их маскируют, сохранив лишь «вклад» Шваба в проектирование будущего глобального мира [20]. Предложенная панорама динамики дает достаточно подробный материал для реалистического реагирования. Лидирующая роль технико-технологических и научно-аналитических факторов в единой динамике помогает реализации как бы «нейтрального» анализа, маскируя спекулятивные интриги глобальных лидеров в диалектике отношений «природа — общество — культура», игнорируя ценность глобального благополучия. На этом фоне подчеркивается и рост регулирования в его политико-экономических и идеологических, включая и религиозные, механизмах, их проявлений в принятии решений.
Методологические основы цивилизационных коммуникаций: онтологические основания
Следует обратить внимание на технологическую форму, которой пользуется аналитик. Обычно преобладающую роль играет динамика индивидуальных смыслов, выражаемая в обычном или несколько искусственном профессиональном или научно-предметном языке. Этим и выражается мысль авторов, полностью адекватных в своем профессиональном сообществе. Потребитель их текстуально выраженных результатов соотносит свои смыслы с тем, что он замечает при добросовестной работе по пониманию текстов, опираясь на свой комплекс смыслов, в той или иной степени приходит к подобному в построенной картине события. Степень убежденности и надежности, потребительской перспективы остается достаточно гибкой, вариативной и зависящей от интеллектуальных стереотипов понявшего тексты. Процедуры доказательства положений остаются маловероятными, лидирует доверие версии, часто в зависимости от доверия автору [1, 4].
Участие в методологической коммуникации ведет к существенной перестройке процессов понимания и участия в дискуссиях. Пластическое бытие смысловых результатов первичного понимания становится недостаточным и создающим опасность допущения ошибок, искажений содержания мысли авторов, иллюзий. Чтобы следовать ценности понимания, самой функции порождения версии внешнего автора своими средствами, следует проверять понимание, обращаясь к автору или его адепту. Но само произнесение своего вторичного текста создает ту же проблему адекватности, подмены, искажения и иллюзии. При рефлексивном осознании этого нежелаемого результата, при внутренней честности и этике коммуника- тивных взаимодействий, появляется потребность в опоре на нечто «твердое», предельно убедительное и даже доказательное. Если первый результат всегда ситуационно случайный (Е тип), а после обычной проверки понимания он более надежен, но лишь относительно адекватный (ЕИ тип), то приход к желаемому, надежному результату неизбежно связан со сменой способа работы в понимании и в условиях дискутирования. Приходится интериоризиро-ванность заменять экстериоризированностью, овнешне-нием и не столько говорением, сколько «изображением» надежного варианта понимаемого содержания, созданием рисунка, подчиненного своему смысловому прототипу, который подвергается проверке.
Так как сопоставление с авторским вариантом продуктивно, если он также выражается рисунком, то либо констатируется допустимое отождествление, что бывает крайне редко, либо на материале двух (и более) рисунков создается обобщенный заместитель, схематическое изображение. Но это уже преддверье конструирования в позиции арбитра, «абстрагирование». Содержание такого СИ отрывается от исходной конкретности материала рисунков в пользу абстрактности. При согласии на это соотносящихся коммуникантов, автора и понимающего, возникает семантический эффект «углубления» содержания. А это уже начало пути к «сущности» в содержании. Этим и занимается в науке теоретик. При согласии автора СИ становится желаемым «твердым», сохраняя статус результата понимания, вне самовыражения того, кто покидает понимание и становится иным автором, в том числе и конкурирующим в коммуникации с автором. Это и соответствует в понимании ИЕ уровню. При продолжении абстрагирования появляется перспектива вводит абстракцию в функции «основания» для конструирования и иных дедуктивно допустимых версий как «основанных» на том же основании. Это в науке становится априорным конструированием возможных версий с открытостью проверки в новых наблюдениях или экспериментах. Иначе говоря, в методологической коммуникации выделяется процедура внесения и требований основания предлагаемой версии. Внимание перемещается в сторону введения основания, а затем и версии, которая соответствует основанию. Такая процедура появлялась в дискуссионной практике, в то числе и в античности. Но обязанность выражать основание и основанное в СИ оформилась в методологии ММК. Она была подхвачена нами и раскрылась технологически в ММПК [9–13]. Поэтому различие версий возможного миропорядка, изложенное в тексте авторов, требует внесение СИ, как на уровне Е или ЕИ, так и ИЕ, а на онтологическом уровне и уровне И. Однако такое изменение мыслетехники порождает для новичков субъективное сомнение и опасение за сохранность естественного выражения смыслов. Только признание пользы следования требованиям логики, сначала аристотелевского типа, а затем и гегелевского типа снимает настороженность. Но для этого следует пройти путь логизации.
Тем самым, можно все внимание обратить на особенности содержания материала, эмпирии и пытаться его организовать в схематизации, усматривая в ней возможность заметить полезное и неслучайное, но можно обратить внимание на сущностные основания и в них искать подобное материалу, осуществляя априорное, сущностное портретирование в диалектической дедукции.
Трансформация основ глобального образования — основа антикризисного проектирования цивилизационного развития
В нашем случае, при соблюдении требований Гегеля, можно «спрашивать» онтологические основания, какая версия, какой тип цивилизации ближе к истине и онтология отвечает сначала о том, что такое истинная цивилизация, а затем к какому типу цивилизации из типологии, выведенной из «истинной» цивилизация реальная ближе. Поэтому сопоставление опирается на наличие совершенно неслучайной типологии цивилизаций. Именно такую типологию мы и предложили, выведя из онтологии исходное основание в многообразии цивилизаций. Такой дедуктивный путь отличает нашу парадигму от имеющихся, эмпирически ориентированных. Конечно, мы сначала осуществляли индуктивное обобщение, конструирование высшего основания, онтологическую абстракцию на уровне «исходной клеточки» по Гегелю, понимая что вне опоры на требования гегелевского метода такое первоос-нование, «зеркальце», получить нельзя. Дедуктивное портретирование является высшим уровнем аналитического мышления и ему следует учить профессионалов в реализации аналитической функции. Выделим исходные положения в рамках подобной аналитики.
Любые ориентации в движении страны должны опираться на «идею» как сущностный образ типа страны, «идеал», как соответствующий идее высший целевой образ, и «ценности», как присущие типу страны высшие типы мироотношения, и предполагать стратегический уровень представлений о «пути» к тому уровню близости идеалу, который соответствует содержанию притязаний, вместе с факторным обеспечением неизбежности достижения введенной цели. Но сущностный образ страны отличается от эмпирических конструкций в отображении особенностей конкретного типа страны и специфика стратегической позиции проектировщика и состоит в придании первичным взглядам нужного уровня обобщенности. Именно такое высокое обобщение может быть адекватным в рамках организационно-управленческой иерархии в руководстве страной, которая сопровождается мыслительной иерархией и иерархической коммуникацией, взаимодействием. Вместе с мыслительной иерархией возникает и мотивационная иерархия. Все три иерархии составляют основу иерархического звена в организме страны, соотносящейся с сетевым базисом страны и об- щества в ней. Успешность и перспективность бытия страны зависит от гармонизации отношений между «сетевым» и «иерархическим» компонентами единого, соответствующей диалектической динамикой.
Сравнительный анализ результатов проектирования «пути», применяемых воззрений о критериях проектных содержаний в соотнесении с притязаниями выделившихся проектных команд, при всей искренней устремленности к благополучию и успеху страны, показывает как правило технологическую наивность мышления, отсутствие осознавания зависимости качества мышления от качества применяемых средств, языковых инструментов, от следования требованиям культуры мышления, учета достигнутых критериальных эталонов и способов их применения.
Мыслительный механизм остается заложником индивидуализма и случайности «творений», стихийности отношений и самоотношений. Поэтому опора на принцип истинности заменяется опорой на принцип искреннего или спекулятивного самовыражения. В то же время, помимо привычной инерции устремленности к моделированию и придания ему определенности, четкости и ответственности благодаря стандартам математики и даже формальной логики, что характерно для современной мировой мысли в стратегических разработках, в СССР и теперь России возникла линия методологических разработок, воспринявшая не только формально ориентированную традицию культуры мышления, но и собственно содержательную, представленную в диалектической логике (в версии ММПК) [6, 10–13].
Специфика в организации эмпирического и привычного теоретического материала организованной мысли состоит в том, что базисные понятия подчинены объектно-онтологическим требованиям к сущностным атрибутам по теме анализируемых явлений. Поэтому содержание вопросов задачного и проблемного типов, а затем и ответов не являются заложниками эмпирического материала и субъективных смыслов, критика чего подробно осуществлена в работах от Канта до Гегеля, а частично как ранее, так и позже в ММК.
Список литературы Экологическая культура в условиях мирового цивилизационного кризиса: аналитика безопасности и образовательное обеспечение
- Анисимов О. С. Методологическая культура педагогической деятельности и мышления. М.1991.
- Анисимов О. С. Экологическая культура как средство решения цивилизационных проблем. Экология и образование: на пути к культуре мира. Вып. 4. М 1999.
- Анисимов О. С. Педагогическая акмеология: общая и управленческая. Минск, 2002.
- Анисимов О. С. Принятие государственных решений и методологизация образования. М. 2003.
- Анисимов О. С. Политические аспекты экологической культуры./ Экологическая культура и образование: опыт России и Сербии. М. 2006
- Анисимов О. С. Экологические проблемы глобалистики: цивилизационный подход. Экологические проблемы глобалистики. М. 2009.
- Анисимов О. С. Педагогическая деятельность: игротехническая парадигма. В 2-х т. М., 2009.
- Анисимов О. С, Глазачев С Н. Методологические диалоги как средство развития экологической культуры личности: Акмеология. 2014; 1 (49): 123-128.
- Анисимов О. С. Стратегический проект цивилизационного обновления и развития России: XXI век и образ будущего России (версия СЭВ и ММПК). М. 2017
- Анисимов О. С. Проблемы и перспектива создания мирового проекта (версия СЭВ и ММПК). М 2018.
- Анисимов О. С, Дербин Е. А. Введение в аналитику безопасности. М, 2018.
- Анисимов О. С. Проект «Россия»: методологическая версия. М., 2020.
- Анисимов О. С. Методологическое самоопределение и схемотехника. Мышление стратега: модельные сюжеты. Вып. 75. М., 2022.
- Глазачев С. Н., Козлова О. Н. Экологическая культура. М. 1997.
- Глазачев С. Н., Глазачев О. С. Экология человека: аспект культуры. Вестник Международной академии наук (Русская секция). 2015; 1: 5—7.
- Глазачев С. Н., Гагарин А. В. Экологическая культура как вершинное достижение личности: сущность, содержание, пути развития. Вестник Международной академии наук (Русская секция). 2015; 1: 20—23.
- Глазачев С. Н, Глазачев О. С, Гришаева Ю. М. Мир природы и информационное общество. Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2015; 9: 3—13.
- Концепция непрерывного образования в методологическом подходе. М. 2021.
- Понятийная парадигма аналитики (общий стандарт) «100 схем». М., 2019.
- Садовничий В. А, Акаев А. А, Ильин И. В, Коротаев А. В, Малков С. Ю. Моделирование и прогнозирование мировой динамики в XXI веке. М. 2022.